Новости

Компания «Глобус-Сталь» приглашает посетить свой стенд на 30-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2024», которая пройдет с 29 октября по 01 ноября в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва).
«Глобус-Сталь» уже давно и уверенно вошла в число основных участников – лидеров рынка нержавеющей стали, достижения которых привлекают самое большое внимание и интерес у экспертов отрасли.
В этом году на стенде будут представлены образцы листового металлопроката и декоративные поверхности нержавеющей стали, образцы электросварных нержавеющих труб Трубного завода: круглые, профильные трубы, а также трубы в бухтах различных диаметров, упаковочные решения и многое другое.
На стенде можно будет провести переговоры с экспертами и специалистами компании «Глобус-Сталь», ознакомиться с образцами продукции и обсудить интересующие вопросы. Источник

Рост промпроизводства в транспортном машиностроении составил в первом полугодии 2024 года 8%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальному проекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».
«Выпуск легковых автомобилей вырос на две третьих, тепловозов – почти в полтора раза, грузовых вагонов – на 40%, автобусов – примерно на 20%», – добавил он.
«Чтобы ускорить создание прорывных технологий, их внедрение в такие секторы, крайне важно повысить привлекательность транспортной отрасли для инвестиций и использования механизмов государственно-частного партнёрства» Источник

По данным РА «Русмет», стоимость лома на российском рынке за 30 неделю 2024 г. (22–28 июля) составляет 24 200 руб/т (погрузка ж/д транспортом). Базис FCA, без учета доставки. Это на 1,43% (–350 руб.) ниже, чем на 29-й неделе.
Стоимость лома на внутреннем рынке продолжает снижение. С первых чисел июня она упала на 6,2% (1 650 руб.) — с 25 850 до 24 200 руб/т.
Фактически цена опустилась до уровня начала года. В первую неделю 2024 года индекс цен на лом составлял 24 150 руб/т, что всего на 0,21% выше текущего.
16–22 июля на Лондонской бирже стоимость фьючерса на металлолом держалась на стабильном уровне, которого достигла в начале лета. 16 июля она снизилась до 388 долл. США за тонну (всего на 0,51%), но уже к началу дня 22 июля вернулась к 390 долл/т. Правда закрылся день с –1,41%, на уровне 384,5 долл/т.
К 30 июля цена лома на LME снизилась до 379,5 долл/т. Это –1,31% по сравнению с закрытием 22 июля. «Заморозка цен» на мировом рынке лома завершилась. Происходят незначительные, но все же изменения. Стоимость лома падает, что может повысить закуп.
С начала года цена снизилась на 9,21%. В первую неделю января 2024 года стоимость лома составляла 418 долл/т. В 2024 году ниже стоимость металлолома на LME была только 11 марта — 374 долл/т.
Сравнение цены на мировом и внутреннем рынках
На 30 июля 2024 года курс ЦБ составил 86,56 руб. за долл. США. В июле колебания курса наблюдались в пределах 1,83%. Доллар не поднимался выше 88,17 руб. К концу месяца заметна тенденция на снижение.
Стоимость лома на LME по курсу ЦБ на 30 июня равна 32 847,77 руб/т. Это на 36,02% выше, чем на внутреннем рынке.
По сравнению с предыдущей неделей разница в стоимости незначительно сократилась. Совпадающая динамика на мировом и внутреннем рынке обеспечила отсутствие скачков в разрыве цен, сообщает телеграм-канал vtorion. Источник

По данным Турецкого статистического института (TUIK), в мае 2024 г. национальный экспорт арматуры прибавил 10,5% к показателю предыдущего месяца и 46,9% к уровню мая 2023 г. и достиг 303,4 тыс. т. По итогам пяти месяцев внешние продажи данной продукции увеличились на 24,0% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности до 1,37 млн. т.
В то же время, нельзя сказать, что турецкие металлургические компании смогли восстановить свои позиции на мировом рынке арматуры. В рекордном 2021 г. объем национального экспорта данной продукции достигал 500-600 тыс. т в месяц. Ситуацию удалось улучшить только по сравнению с провальным 2023 г.
Основным покупателем турецкой арматуры остается Йемен, куда в январе-мае 2024 г. поступило 265,0 тыс. т данной продукции, что на 27,6% больше, чем годом ранее. Поставки в Израиль, который в первой половине прошлого года стал крупнейшим импортером, были и вовсе прекращены.
В текущем году турецкие компании поставляют значительные объемы арматуры в страны Юго-Восточной Европы (Румыния, Албания), в Эфиопию, США, а также в некоторые государства Латинской Америки. В частности, одним из традиционных рынков сбыта для турецких компаний является Перу. Источник

Гонконг в мае нарастил закупки российского золота почти в 60 раз к апрелю, до максимальных с октября прошлого года 750 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгского статбюро.
Гонконг весь прошлый год активно покупал российское золото, однако в декабре на фоне роста цен начал замедлять темпы покупок. В феврале их вовсе не было, в марте они выросли до 829 тысяч долларов, а в апреле — до 13 миллионов долларов.
В конце весны Гонконг ввез этого драгметалла из России на 750 миллионов долларов, что в 58 раз больше показателя за апрель. При этом более крупные покупки совершались лишь трижды в истории — в августе, сентябре и октябре прошлого года.
Россия по итогам мая вернулась на второе место по поставкам золота в Гонконг с долей в 15%. Крупнейшим поставщиком традиционно является ОАЭ — в мае их поставки были на 1,8 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает материковый Китай с 621 миллионом долларов. Источник

По данным International Aluminium Institute (IAI), в мае 2024 г. мировое производство первичного алюминия достигло 6,134 млн. т или 197,9 тыс. т в сутки, что стало рекордным показателем в истории отрасли. По сравнению с маем 2023 г. рост составил 3,4%. Среднесуточное производство прибавило 0,5% по отношению к апрелю.
В течение первых пяти месяцев текущего года в мире было получено, согласно оценкам IAI, 29,901 млн. т алюминия. Это на 4,0% превышает уровень аналогичного периода годичной давности.
Китайские компании не добились в мае абсолютного рекорда, но они нарастили производство металла на 4,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года до 3,65 млн. т. Объем выпуска за пять месяцев увеличился на 5,4% год к году до 17,739 млн. т.
В странах Персидского залива майский результат (525 тыс. т) оказался на 0,8% меньше, чем годом ранее. Но по итогам января-мая был достигнут рост на 1,0% до 2,597 млн. т. Сокращение производства в мае было отмечено также в странах Африки (129 тыс, т, -5,1%), но там и по итогам пяти месяцев произошел спад на 4,3% до 629 тыс. т.
Все остальные регионы улучшили свои прошлогодние результаты. Наибольшие темпы роста показывает Южная Америка. Там в мае были произведены те же 129 тыс. т, что и в Африке, но это на 5,7% больше, чем годом ранее. Повышение по итогам пяти месяцев составило 5,0%, до 626 тыс. т.
В России и странах Восточной Европы в мае, по данным IAI, было произведено 348 тыс. т алюминия, а за пять месяцев — 1,701 млн. т. Это соответственно на 2,4 и 2,1% больше, чем годом ранее. Источник

Путь к успеху
С самого начала мы поставили перед собой цель предоставлять нашим клиентам первоклассные промышленные решения. Мы инвестировали в исследования и разработки, создав портфель новаторских продуктов, которые изменили отраслевой ландшафт. Наша неустанная приверженность качеству и обслуживанию завоевала нам лояльных клиентов.
Покоряя будущее
Когда мы отмечаем этот знаменательный юбилей, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы продолжаем инвестировать в технологии и инжиниринг, расширять наш ассортимент продукции и укреплять наши глобальные связи.
Мы благодарим наших клиентов, партнеров и сотрудников за их вклад в наш успех, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего путешествия в качестве лидера в промышленной отрасли.




Трубная металлургическая компания в 2024 году может сократить капитальные затраты на 34% по сравнению с предыдущим годом.
Ориентир по capex компании на этот год составляет 27 млрд рублей по сравнению с 41 млрд рублей в 2023 году. На поддержание текущих мощностей ТМК планирует направить 18 млрд рублей, на развитие — 9 млрд. рублей, говорится в презентации компании.
ТМК — ведущий российский поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. В 2023 году объем реализации трубной продукции компании составил 4,193 млн тонн. Источник

По данным Международного института алюминия (IAI), мировое среднесуточное производство первичного алюминия в апреле 2024 г. составило 196,6 тыс. т, что на 0,1% больше, чем в предыдущем месяце, и на 3,3% больше, чем год назад.
Наибольшее сокращение суточного производства алюминия произошло в Азии (без учета Китая) – на 1%, до 13,07 тыс. тонн. Также выпуск снизился в странах Персидского залива (составил 17,07 тыс. т/сут.; -0,2% по сравнению с предыдущим месяцем). В России и Восточной Европе, а также в Латинской Америке без изменений по отношению к марту — 11,17 тыс. т/сут. и 4,10 тыс.т/сут соответственно.
Незначительный рост суточного производства алюминия наблюдался в следующих регионах: в Африке (4,07 тыс. тонн; +0,1%), в Северной Америке (11,03 тыс. т; +0,3%), в Западной Европе (7,53 тыс. тонн; +0,7%), в Австралии с Новой Зеландией (5,2 тыс. т/сут.; +0,1%), в Китае (116,67 тыс. т/сут.; +0,2%).
Показатели предприятий, не сообщающих свои результаты, IAI в апреле оценила на уровне 6,7 тыс. тонн в сутки.
Совокупный объем выпуска алюминия в мире с января по апрель 2024 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,757 млн т. Без учета Китая производство алюминия в мире за это же время увеличилось на 2,3% — 9,672 млн т.
По итогам первых четырех месяцев 2024 года наиболее значительное сокращение производства относительно аналогичного периода предыдущего года в процентном выражении наблюдается в Африке (-6%), наиболее значительное увеличение производства – в Северной Америке (+4,7%). Источник

В пятницу, 10 мая, цены на медь в Лондоне выросли на фоне активизации трейдеров, пытавшихся использовать возможности в связи с разницей цен на металл в Чикаго, Лондоне и Шанхае.Трехмесячный контракт на медь на LME подорожал на 1%, до $10003 за т, а с начала года рост котировок составил 16%. Тем временем на Chicago Mercantile Exchange (Comex) стоимость меди взлетела на 21%, что открыло возможности трейдерам продавать медь на американский рынок с выгодой. Ряд производителей в латиноамериканском регионе могут увеличить поставки металла в США, хотя логистические ограничения могут ограничить отгрузки. «Трейдеры готовы платить премию до $300 на т по майским поставкам в порты США, но объем свободного фрахта ограничен», — отметил в интервью Reuters один из производителей. Кроме LME, чикагская цена на медь также обогнала шанхайские котировки. Некоторые трейдеры изучают возможность реэкспорта меди из Китая для получения арбитражных выгод.
Цена алюминия с поставкой через 3 месяца просела в пятницу, тогда как статистика LME демонстрирует 88%-й скачок в инвестициях. Алюминий торговался на бирже на момент закрытия сессии на отметке $2529,50 за т (-1,3%).
Запасы алюминия на складах LME увеличились на 424 тыс. т, до 903,85 тыс. т, что является самым высоким уровнем с января 2022 г. Последние крупные поставки алюминия на биржу осуществила Trafigura, сообщили в Reuters. «Эти поставки имеют слабое отношение к фундаментальным факторам, на рынке доминирует контанго, что указывает на то, что биржевики ожидали этих поставок», — отметил глава отдела исследований AMT Даниэль Смит. Скидка к спотовому контракту по отношению к трехмесячному в секторе алюминия составила $47,7 на стоимость тонны.
На утренних торгах понедельника, 13 мая, цена меди продолжила демонстрировать позитивную динамику на фоне надежд инвесторов на снижение ключевой ставки Федрезервом и роста спроса в КНР на металл ввиду нарушений поставок меди.
Надежды на снижение ключевой ставки активизировались после более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США, но сейчас наблюдатели ждут опубликования данных по инфляции.
Тем временем в Китае потребительские цены выросли в апреле третий месяц подряд, тогда как цены производителей продолжили спад. Между тем показатель новых заимствований в Китае упал в апреле сильнее ожидаемого относительно предыдущего месяца, и в целом рост кредитования рекордно замедлился, сообщил китайский центробанк, что увеличивает вероятность мер стимулирования экономики Поднебесной.
Аналитики ANZ указывают, что дефицит предложения меди может усугубиться, если цены на металл не будут достаточными для стимулирования развития новых проектов по добыче меди. По оценкам экспертов, для запуска новых прибыльных рудников цена меди должна составлять не менее $12000 за т.
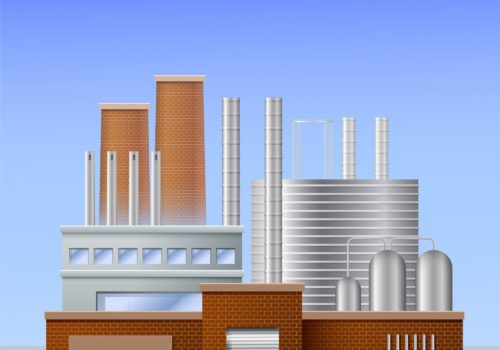
«Инвестиции в проект составляют 26,6 млн рублей. Из них 18,6 млн рублей, почти 70% от общей суммы, инвестор получит в виде льготного займа от Фонда развития промышленности Подмосковья по программе «Приобретение оборудования». На предприятии дополнительно будет создано около 10 рабочих мест. Новое оборудование позволит сократить потери при выплавке на 10%, что в свою очередь обеспечит увеличение производства алюминиевого сплава без увеличения объемов закупки сырья», — рассказалазаместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
ООО ПК «Альфа Групп» специализируется на производстве алюминиевой продукции. Предприятие представляет собой комплекс металлургических производств, предназначенных для изготовления вторичного алюминия в виде первичных форм — чушек, пирамидок, гранул, а также алюминиевого проката — алюминиевой катанки.
Промышленные предприятия могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых. Самые популярные программы — «Импортозамещение» и «Приобретение оборудования». Источник

Уральская Сталь подтвердила соответствие действующей системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018 в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
В ходе трехдневной комплексной проверки аудиторы ассоциации по сертификации «Русский Регистр» отметили заинтересованность металлургов в развитии действующей системы менеджмента качества и увеличении сбыта штрипса компаниям, выполняющим заказы крупнейших промышленных заказчиков, прежде всего Загорскому трубному заводу, а также их стремление к совершенствованию производственной деятельности и улучшению качества продукции.
Система менеджмента качества Уральской Стали признана соответствующей требованиям СТО Газпром 9001-2018 в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, что будет подтверждено новым сертификатом.
Взаимодействие производителей труб с нефтегазовой отраслью будет обсуждаться в ходе 14-й Общероссийской конференции, которая пройдет в Новосибирске 23-24 мая 2024 г. Источник

Российские металлургические компании в I квартале 2024 г. экспортировали в Китай 424 600 т стальных полуфабрикатов – втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные.
В денежном выражении экспорт полуфабрикатов составил $194 млн, также увеличившись в 3 раза год к году. Основная товарная позиция в поставках в КНР – сляб, применяющийся для выпуска плоского стального проката.
В 2023 г. поставки полуфабрикатов в КНР снизились в физическом выражении почти вдвое до 921 000 т, в денежном – более чем в 3 раза до $431 млн.
После начала СВО на Украине Азия стала одним из основных рынков сбыта для крупнейших производителей слябов в России – «Северстали», Evraz и НЛМК. В пресс-службах этих компаний на запросы «Ведомостей» не ответили. При этом 23 апреля начальник отдела по работе с инвесторами «Северстали» Никита Климантов отмечал, что «Северсталь» фокусируется на российском рынке: «92% продаж [за январь – март] приходилось именно на этот рынок, всего лишь 8% экспорта, и это теперь уже традиционный экспорт в СНГ». Источник

Очередная неделя прошла на мировом и российском рынке стальной продукции в привычном стиле. За рубежом ценовые колебания остаются слабыми, цены зажаты, словно в тисках, из-за недостаточного спроса, с одной стороны, и высокой себестоимости, с другой. В России в центре внимания остается недавний взлет цен на арматуру. В октябре ожидается подорожание многих других видов стальной продукции.
В отечественной металлургической отрасли жизнь продолжает бить ключом. За последние две недели состоялись две конференции. В Екатеринбурге 14-15 сентября в центре внимания находились сервисные металлоцентры, а на прошлой неделе белорусский Гомель гостеприимно принял производителей метизов из двух стран.
Вообще, на конференции очень полезно ездить. Там не только встречаешься с различными интересными людьми, но и узнаешь многие вещи, которым ранее, возможно, не уделял должного внимания.
Так, в рамках конференции «Проволока – Крепеж» состоялась поездка на Речицкий метизный завод – крупнейшее предприятие этого профиля в Белоруссии. Для него прошлогодние события, завершившиеся попаданием под все возможные санкции, стали более серьезным испытанием, чем для подавляющего большинства российских производителей.
Речицкий завод исторически поставляет большую часть своей продукции на экспорт. В прежние времена важнейшим рынком сбыта для него выступали Европа и Северная Америка. Теперь эти направления недоступны, остались только рынки СНГ плюс немного Ближнего Востока. Белорусская компания стала искать выход из положения, расширяя производство и номенклатуру саморезов – продукции, на российском рынке представленной, по большей части, китайским импортом. С китайцами совершенно невозможно конкурировать по цене, но зато их можно придавить (хотя и не задавить совсем) гарантированным высоким качеством.
Вообще, проблема дешевой китайской продукции поднималась на конференции не один раз и не два. Есть вполне обоснованное предположение, что крайне низкие цены на нее обусловлены не только экономией на масштабах и частым пренебрежением к качеству, но и целенаправленной государственной политикой по захвату внешних рынков. Можно покупать у китайцев дешево и получать дешевое китайское финансирование, но за этим следует выставление встречных требований, превращающих китайского поставщика в абсолютного монополиста. С этим, например, порой сталкиваются российские компании, пытающиеся продвинуть свою продукцию на африканский рынок.
Китайский импорт – это не только африканская проблема. Компании из дружественной КНР очень-очень заинтересовались и российским рынком, на котором после ухода западников осталось очень-очень много свободных вкусных ниш. Качество китайской продукции – понятие неопределенное, оно может варьироваться у различных поставщиков в широких пределах. Но дешевизна свойственна всем.
И возникает непростой вопрос: можно ли с этим что-то сделать и надо ли? Есть направления, и их немало, на которых российские компании не могут конкурировать с дешевым китайским импортом. В ряде случаев российского производства данной продукции нет совсем или почти нет. А попытки привлечения финансирования под проекты в этой области наталкиваются на резонные вопросы банкиров: «А за счет чего вы планируете возвращать кредит, если ваша расчетная себестоимость будет выше рыночной цены на китайские аналоги?»
Речицкий метизный нашел выход в занятии качественной ниши. Но что делать российским компаниям, если они только планируют осваивать новое производство? Здесь представляется, что ответ на этот вопрос должен лежать вне рыночной плоскости. Как уже стало полностью понятно, в нынешней непростой обстановке рынок не может решить многие насущные проблемы. Наоборот, иногда он мешает их решать.
Поэтому в российской экономике растет и будет расти доля государственного стратегического планирования. Будут и дальше приниматься решения, идущие вразрез с рыночной логикой, снижающие прибыльность отдельных конкретных участников рынка, но нужные для страны в целом.
Характерный пример такой логики – недавно введенные ограничения на экспорт нефтепродуктов. Или новые экспортные пошлины, касающиеся, кстати, стальной продукции, ставка которых будет зависеть от курса рубля. Вообще, за валютный рынок, похоже, принялись всерьез. Есть серьезные шансы на то, что тенденция ослабления рубля, продолжавшаяся с июля 2022 г., завершилась. Теперь, по логике, следует ждать укрепления отечественной валюты до 80-90 руб. за доллар, причем на достаточно долгий срок.
Очевидно, чем быстрее это произойдет, тем раньше начнется снижение ключевой ставки Центробанка РФ. Потому как в другую сторону это соотношение не слишком работает, как показывает печальный пример Турции. Местный центробанк повысил ставку от 25 до 30%, но турецкую лиру это не укрепило. Она продолжила медленное снижение.
Кстати, несмотря на рост ставки, продолжающийся с июня, инфляция в Турции снова увеличивается. В августе она достигла 59% против 48% в июле. По мнению местных специалистов, спрос на стальную продукцию в стране в ближайшее время продолжит ослабевать, а металлургам приходится понижать цены. Соответственно, и российские компании вряд ли получат много заказов от турецких клиентов.
На мировом рынке листового проката продолжится доминирование китайских поставщиков. Для этого есть весьма серьезные причины. По данным S&P Global Commodity Insights, за первую половину 2023 г. в Китае было введено в строй пять новых станов горячей прокатки совокупной производительностью 10,9 млн. т в год. Во втором полугодии ожидается запуск еще десяти, на 31 млн. т в год. Всего за первые восемь месяцев 2023 г. в КНР было произведено 133,75 млн. т горячекатаных рулонов средней ширины, что на 12% больше, чем за тот же период годом ранее. А в августе выпуск составил более 18 млн. т с превышением прошлогоднего графика на 33,2%. И девать эти излишки некуда, кроме как на экспорт.
Впрочем, потеря значительной части внешних продаж – не самая большая трудность для российских металлургов. На конференциях в последние две недели все отмечали тотальную нехватку квалифицированного персонала и повышение дороговизны рабочих рук. Однако при этом радует, что, как минимум, некоторые компании начали решать эту проблему путем внедрения автоматизации и механизации, а также ухода от использования ручного труда.
По словам представителя одной их них, поставить роботизированную линию стало выгоднее, чем нанимать для выполнения аналогичной работы нескольких человек. В другой компании рабочим на складах стали выдавать экзоскелеты, чтобы они могли поднимать более тяжелые грузы, а также использовать вакуумные присоски для перемещения ящиков.
Порой говорят, что национальная птица России – это не двуглавый орел, а жареный петух. И в это все больше верится. А в том, что животворительный пинок положительно сказывается на скорости принятия решений и способствует сообразительности и изобретательности, вообще не может быть никаких сомнений!
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Да, признаться, такого на российском рынке стальной продукции давно не бывало! Консолидационная сделка, в результате которой в стране возник крупнейший производитель арматуры, а в ЦФО – так вообще чуть ли не локальный монополист, практически немедленно увенчалась взрывным повышением цен на эту востребованную продукцию.
Конечно, хотелось бы задать вопрос, на каком основании арматура должна теперь стоить 72 тыс. руб. за т, что почти на 25% дороже, чем всего полмесяца тому назад? Однако ответ, надо понимать, будет примерно такой. «Это потому, что есть такой фильм, «72 метра». Или вообще, «Патамушта гладиолус». Просто новоявленный рыночный лидер хочет и может наглядно продемонстрировать свои силы, влияние и могущество.
При этом, по слухам, как минимум, один крупный игрок на российском рынке арматуры готов поддержать этот почин. Другие производители пока выжидают, но, по мнению некоторых независимых дистрибьюторов, они тоже предпочтут присоединиться к ценовому пиршеству. Причем на другие виды стальной продукции, в частности, листовой прокат и трубы, этот скачок пока не распространяется. Или это просто пока?!
Вообще-то, это буквально классический пример злоупотребления монопольным положением. Свое веское слово по поводу новой инициативы должна сказать ФАС. Или Минпромторг, который просто в силу своих служебных обязанностей должен отреагировать на подобную инициативу одного из ведущих участников российского рынка.
Наконец, наверняка не промолчат строители. Хотя они-то как раз могут обвинить во всем металлотрейдеров, которые закупали арматуру по 58 тыс. руб. за т (в августе), а теперь хотят ее продавать, скажем, по 75 тыс. руб. за т.
Так или иначе, некоторые клиенты предпочтут принять условия глав-поставщика. Поскольку арматуру в сентябре им брать необходимо, а перехватить уже негде и не у кого. Другие, имеющие запас хотя бы на месяц, будут выжидать. В частности, что скажут джунгли… то есть, конечно, в правительстве. Вот так неожиданно и для властей, и для рынка в целом начался необычный стресс-тест, острый эксперимент. И по его итогам можно будет сделать весьма важные выводы.
Например, о том, что чисто рыночные аспекты отечественной экономики из раза в раз становятся ее уязвимостями. Повышение цен на стальную продукцию в 2021 г. и сейчас, подорожание горючего, скачки валютного курса, вывоз капитала и т.п. – все это происходит по той причине, что кто-то хочет навариться с помощью относительно честных рыночных механизмов.
С другой стороны, как заявил президент на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), деприватизации не будет. И возвращаться в советскую «псевдоплановую» экономику никто не будет. Тем не менее, вопрос о нахождении оптимального сочетании рынка и государственного управления экономикой не просто стоит на повестке дня. Он торчит там как Лахта Центр на фоне петербургского пейзажа. Но готовых решений здесь, к сожалению, нет. Их приходится искать на ощупь, методом проб и ошибок.
В целом российский рынок стальной продукции сейчас находится на развилке. У него впереди два возможных пути. Первый из них предусматривает повышение цен в четвертом квартале на все. Тогда арматуру следует рассматривать как предвестник более широких перемен.
Причем, помимо «хотелок» олигополистов-металлургов, у этого повышения будут и более объективные причины. Например, сохраняющийся относительно высокий спрос. Ограниченные объемы предложения из-за постоянных ремонтов на меткомбинатах. Высокие инфляционные ожидания, вызванные, в частности, продолжением спада на валютном рынке.
Если рубль в ближайшее время снова провалится до 100 руб. за доллар, рынок с большой степенью вероятности выберет первый путь. В Центробанке немного лукавят, заявляя, что для них нет никакой курсовой психологической границы. Просто они не могут ответить иначе, поскольку возникает риск целенаправленной атаки на рубль с целью провоцирования Центробанка на некие действия по защите курса. Но для бизнеса такая граница определенно есть.
Второй путь – это примерная стабилизация цен на стальную продукцию до конца года. Возможно, с небольшим увеличением стоимости некоторых категорий и непременно – с отступлением арматуры от объявленных высот.
В качестве индикатора тут опять можно использовать курс рубля. На ВЭФ неоднократно говорилось о его укреплении до 80-90 руб. за доллар. Реализация такого сценария должна немного успокоить рынки. Но вероятность здесь сложно оценить. Участники валютного рынка у нас действуют как истеричные белочки, а курсы скачут испуганными зайчиками. Непредсказуемо и невыразимо.
Центробанк РФ между тем повысил ключевую ставку еще на 1 п.п. – до 13%. Могли бы и не поднимать, но в последние недели немного возросла инфляция, так что особого выхода не было. Правда, при этом возникает устойчивое впечатление, что повышение ставки само по себе является мощным инфляционным фактором, помимо слабости рубля и подорожания топлива.
Однако здесь надо понимать, что у Центробанка нет иных инструментов, кроме как играться уровнем ключевой ставки. Как напомнила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, меры валютного контроля и ограничения вывоза капитала – это прерогативы правительства. Причем в этих областях надо проявлять предельную осторожность, так как российская внешняя торговля сейчас осуществляется весьма причудливыми путями. Рубить сплеча слишком рискованно. Нужны, скорее, точечные индивидуальные воздействия в исполнении специальных органов.
Еще один важный момент заключается в том, что экономика масштабов страны очень велика и поэтому инерционна. Колебания ключевой ставки проявляются только с продолжительным лагом. Ее повышение будет означать ухудшение условий кредитования. Из этого вытекает сокращение инвестиций. Меньше станет спрос на рабочую силу, замедлится рост зарплат. Сузится потребность в инвестиционных и потребительских товарах. На рынках возникнет избыток предложения, а некоторые поставщики в конце концов начнут понижать цены. По инфляции будут бить дефляцией, пока она не сократится до искомых 4%. Вот тогда Центробанк скажет, что дело, наконец, сделано, и ставку можно опускать, а то экономика уже провалилась в спад.
Данный сценарий обладает рядом недостатков. Прежде всего, он предполагает, что никто со стороны не будет мешать проведению этой многомесячной комбинации. Но в нынешних условиях на это надеяться сложно. Вполне вероятно, что по курсу рубля как наиболее уязвимой точке будут наноситься новые удары извне. И что тогда – опять задирать ставку и начинать отчет сначала? А что тогда станется с реальным сектором экономики, для которого подобная борьба с инфляцией превращается в отнюдь не лечебное голодание?
Впрочем, в России голодание будет предписано далеко не всем. Оборонка, авиастроение, производство электроники, нефтегазохимия, фармацевтика, другие стратегические отрасли будут по-прежнему пребывать под опекой государства. Для них дешевые длинные деньги найдутся всегда, и в требуемых объемах. А все издержки борьбы с инфляцией, как ранее проведения СВО, мобилизации и т.д., и т.п. лягут на прочий бизнес. Хотя выживать ему не впервой, а в кризисных ситуациях как раз происходит отбор истинных лидеров.
На прошедшей на прошлой неделе конференции «Сервисные металлоцентры России» как раз достаточно много говорилось об эффективности. В частности, продвигаемая государством программа повышения производительности труда реально работает и дает результаты. Создаются системы кооперации, в рамках которых одни компании предлагают свои временно незадействованные производственные мощности, а другие – находят исполнителей на изготовление жизненно важной им продукции (зачастую, импортозамещающей), для самостоятельного выпуска которой нет ресурсов. При этом важную роль играет также координатор, который проверяет участников пула и гарантирует, что заказ будет выполнен качественно и в положенный срок.
Здесь можно немного утешить себя тем, что иных методов борьбы с инфляцией, помимо тех, что использует сейчас Центробанк РФ, в мире пока не придумали. Европейский центробанк на прошлой неделе тоже повысил ключевую ставку. Правда, только до 4,5%, но для Евросоюза это самый высокий уровень с 2002 г. А в США в августе вдруг скакнула вверх инфляция. По большей части, ее спровоцировало подорожание нефти, над чем американцы не властны, но теперь ФРС США в обозримом будущем точно ничего снижать не будет.
Но есть вообще способы победить инфляцию, не сваливая в штопор всю экономику? Такой вариант был реально реализован в США в 50-60-е гг. Однако для этого требуются жесткие граничащие условия. Во-первых, это низкие и стабильные цены на ресурсы (для России, кстати, это означает отвязка внутренних цен от мировых). Во-вторых, избыточное производство товаров, что не позволяет подниматься ценам на инвестиционном и потребительском рынке. В-третьих, возможность быстро запускать новый бизнес для оперативного закрытия ниш и масштабировать его, проходя путь от малого к крупному за считанные годы. Пожалуй, в нынешних российских условиях выполнение третьего условия сложнее всего.
В Штатах же первое условие похоронил нефтяной кризис 1973 г. Третье там худо-бедно выполняется до сих пор. А вот со вторым получилось интересно. Если в 60-70-е американские компании вели конкурентную борьбу путем повышения эффективности, внедрения автоматизации и новых технологий, то в 80-х спрос начали искусственно «надувать» путем кредитования, маркетинг и реклама стали важнее производства, затраты радикально сократили посредством перенесения мощностей в страны «третьего мира», а затем – в Китай.
Этот урок надо тоже учитывать. Российская реиндустриализация все-таки не может и не должна происходить только на рыночных принципах. Иначе точно попадем в какой-нибудь тупик.
Сейчас промышленность и строительство в западных странах находятся в депрессивном состоянии, потребление стальной продукции там уменьшилось. На мировом рынке стали продолжает доминировать Китай. Объем выплавки в августе там снизился на 4,5% по сравнению с июлем до 86,41 млн. т или 2,787 млн. т в сутки. Но это на 3,2% больше, чем в том же месяце годом ранее.
По данным компании Mysteel, в первой декаде сентября китайские компании начали снова наращивать выпуск стальной продукции. Поэтому все меньше шансов остается на то, что правительство КНР захочет и сможет ограничить производство стали в 2023 г. уровнем прошлого года. За восемь месяцев в стране было выплавлено 712 млн. т, то есть, за четыре оставшихся месяца нужно будет уложиться немногим более чем в 300 млн. т или 2,46 млн. т в сутки.
Пока признаков такого резкого падения производства в китайской металлургической промышленности нет. И если ничего не изменится, то китайский прокат будет по-прежнему идти на экспорт в больших объемах, а цены на стальную продукцию на мировом рынке останутся примерно такими же, как сейчас.
Хотя если китайские власти все-таки введут в ближайшее время жесткие производственные ограничения, это будет шок!
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Самой «горячей» точкой на мировом рынке стали на сегодняшний день является Турция. Там уже давно были проблемы, но теперь они превратились в настоящий обвал. К сожалению, это напрямую затрагивает интересы российских металлургических компаний, для которых Турция традиционно выступала важнейшим экспортным направлением.
Туркам можно искренне посочувствовать. Главная беда страны — сильная и пока неустранимая зависимость от импорта сырья и энергоносителей. В последние годы там делали все правильно — дали заказ «Росатому» на строительство атомной станции, нашли природный газ в Черном море, создавали мощную экспортно ориентированную отрасль по производству автомобилей и комплектующих к ним. Но энергетический кризис 2021 г. начался раньше, чем успели к нему подготовиться, и все полетело в тартарары.
Разрушительное землетрясение в феврале 2023 г. стало не соломинкой, а полноценным бревном, рухнувшим на спину и так захромавшего верблюда. На восстановительные работы нужно около $100 млрд., а этих денег в стране нет, и взять их пока неоткуда.
Власти опять делают, что могут. Для увеличения доходов бюджета подняли налоги и некоторые платежи, например, на регистрацию импортных смартфонов. Пытаются вести борьбу с инфляцией и девальвацией местной валюты, поднимая процентные ставки. В июне их увеличили от 8,5 до 15%, а в июле — еще на 2,5 п.п. до 17,5%.
Однако на реальную экономику все эти меры действуют неблагоприятно — как минимум, в краткосрочном периоде. Деловая активность падает. У бизнеса появились большие проблемы с рефинансированием задолженности и привлечением новых кредитов. Видимый спрос на стальную продукцию упал еще сильнее, чем в мае-июне. Ряд металлургических компаний сократили производство, а может, и приостановили.
Для турецких производителей стали жизненно важным является снижение себестоимости. В начале июля они предлагали на экспорт арматуру примерно по $600 за т FOB, тогда как конкуренты из Египта были готовы продавать ее по $565 за т, а котировки на продукцию производителей из Катара, Малайзии, Индонезии (да и России, пожалуй) могли опускаться до менее $530 за т.
Не удивительно, что турецкий экспорт арматуры в этом году упал вдвое, а среди ведущих покупателей, наряду с традиционными Израилем и Йеменом, значатся и такие страны как Ямайка, Джибути и Эфиопия.
Турецкие металлурги к концу второй декады июля сбили цены на импортный металлолом до $355-360 за т CFR, самого низкого уровня с ноября прошлого года. А вот российские поставщики заготовки благодаря недавнему падению рубля смогли пойти на более серьезные уступки. Стоимость их продукции опустилась в долларах до минимальных показателей с ноября 2020 г., хотя при этом экспортный паритет не такой уж низкий — чуть менее 50 тыс. руб. за т с НДС.
В конце прошедшей недели турецкая арматура предлагалась за рубеж, в среднем, по $580 за т FOB. То есть, для достижения примерного паритета с конкурентами им нужно сбавить цены еще на $20-30 за т. Скорее всего, более серьезного отступления не потребуется и от российских поставщиков полуфабрикатов. Хотя следует отметить, что экспорт в дальнее зарубежье становится для отечественных производителей все менее привлекательной опцией несмотря на нынешний валютный курс. Можно, конечно, опустить рубль до уровня 1 американского цента, но это как-то несколько зашкварно.
Российский Центробанк в этом плане взял пример с турецких коллег — повысил процентную ставку сразу на 1 п.п. до 8,5%. До этого она держалась на неизменном уровне с сентября прошлого года. Правда, есть подозрение, что на курс рубля это особенно не повлияет, так как основное воздействие на него оказывают совсем другие факторы — торговый и платежный баланс, а также объемы вывоза капитала. Здесь нужны иные методы постепенного и целенаправленного воздействия.
Что же касается инфляции, то повышение процентных ставок ее только усиливает, так как растут затраты производителей, а с ними и цены. Можно, конечно, выморозить рынок до состояния дефляции, что неоднократно бывало у нас, а сейчас происходит в западных странах, но у этого «лекарства» слишком много неприятных побочек. Тот же Центробанк РФ прогнозирует на 2023 г. экономический рост в пределах 1,5-2,5%, но тут же оговаривается, что эти унылые значения сохранятся в неизменности, как минимум, до 2026 г. Тоска…
Хотя в принципе не все так плохо. Вице-премьер Марат Хуснуллин положительно охарактеризовал итоги первого полугодия в строительном секторе. Ввод в строй жилья составил 52,1 млн. кв. м, что всего на 0,9% меньше, чем за первые шесть месяцев 2022 г. По многоквартирным домам зафиксирован рост на 9,9% до 21,7 млн. кв. м. Из них 4,0 млн. т пришлось на июнь, что на 17,6% больше, чем годом ранее.
Несмотря на падение с конца 2021 г. количества многоквартирных домов, получивших положительное заключение экспертизы проектной документации, объем действующих разрешений на строительство, по словам вице-премьера, к середине текущего года достиг 153,9 млн. кв. м. Так что, фронт работы у строителей точно есть.
Об этом говорит и текущая обстановка на российском рынке стальной продукции. Наиболее высокими темпами поднимаются цены на прокат с покрытиями, сварные трубы общего назначения, арматуру. Для всех этих категорий именно стройка является крупнейшим потребителем. На другом полюсе находится листовой прокат без покрытия, особенно, холоднокатаный. Эти виды стальной продукции относительно стабильны. Металлурги даже не планируют увеличения их стоимости в августе.
Поддержанию равновесия в секторе непокрытого листового проката безусловно способствуют ремонты на комбинатах, что уже происходят и будут происходить в ближайший месяц. Не слишком высокий спрос на эту продукцию компенсируется ограниченным предложением. Хотя тут надо отметить еще и значительное сужение поставок российского листового проката в дальнее зарубежье. Мировой рынок сейчас в депрессии, продажи у всех невысокие, востребованность стальной продукции низкая.
Возможные изменения к лучшему здесь связаны, прежде всего, с Китаем. В первом полугодии он, скорее, разочаровал. Рост ВВП составил 6,3% во втором квартале и 5,5% за шесть месяцев. Вроде бы неплохо, но многие эксперты ожидали большего. Инвестиции в основной капитал прибавили только 3,8% по сравнению с первой половиной 2022 г., что по китайским меркам маловато.
При этом компании частного сектора, на долю которых пришлось 52,9% капиталовложений, снизили этот показатель на 0,2% по сравнению с первым полугодием 2022 г., а спад на рынке недвижимости составил 7,9%. По-прежнему мало новых строек в жилищном секторе. В июне их было почти на 32% меньше по совокупной площади, чем в том же месяце прошлого года.
Ожидания в Китае двоякие. В первую очередь, металлурги надеются на новые меры по поддержке строительной отрасли и экономики в целом. Хотя сложно сказать, что здесь можно сделать. Китайский рынок недвижимости не просто так обвалился во второй половине 2022 г. Он был сильнейшим образом перегрет, из-за чего в стране просто закончился платежеспособный спрос. Любые меры по его стимулированию опасны тем, что могут снова надуть тот пузырь, что с такими потерями приспустили в 2022 г.
В то же время, китайская промышленность, похоже, понемногу наращивает обороты. Восстанавливается потребительский рынок — в июне отмечался рост продаж автомобилей и бытовой техники. Так что, видимый спрос на стальную продукцию в стране действительно может прибавить. А вот производство стали наверняка уменьшится.
В первом полугодии его объем достиг 535,6 млн. т, на 1,3% больше, чем в тот же период годом ранее. При этом китайские власти неоднократно заявляли, что выплавка стали в 2023 г. не должна превысить прошлогодние 1,013 млрд. т. Значит, на вторую половину текущего года остается не более 477 млн. т. Если снижение выпуска состоится, то, очевидно, уменьшатся и объемы китайского экспорта стали, что в первом полугодии превысили показатель аналогичного периода 2022 г. более чем на 30%, до около 45 млн. т, если брать в расчет и полуфабрикаты.
К концу прошедшей недели котировки на стальную продукцию на Шанхайской фьючерсной бирже достигли самых высоких показателей почти за три месяца, и это неплохой знак. Вряд ли до завершения дождливого сезона в сентябре в Китае что-то кардинально изменится, но, по крайней мере, китайские компании не будут так сильно наводнять мировой рынок дешевым прокатом.
На российском же рынке пока что будет сохраняться относительное равновесие. Возможно, текущая обстановка не претерпит существенных изменений до конца строительного сезона. А осенью могут возникнуть новые расклады.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Вот лето перевалило за половину, а металлурги отметили свой профессиональный праздник. Впрочем, до холодов еще очень далеко, так что российский рынок стали продолжает расти. Если не произойдет чего-либо совсем неожиданного, благоприятные условия сохранятся на нем до осени, когда подойдет к завершению строительный сезон.
Курс рубля, как это уже неоднократно бывало, немного восстановился после падения в конце июня — начале июля, и закрепился на новом уровне. Правда, вопрос, как долго продлится этот период относительной стабильности? Предыдущий в апреле-июне — около двух месяцев. Из этого, наверное, и будем исходить, а все остальное придется списать на неизбежные на море случайности.
Так или иначе, существенного подъема цен на стальную продукцию в августе, скорее всего, не произойдет. Подорожает, прежде всего, прокат с покрытиями, который сейчас весьма сильно востребован и находится в дефиците. Продолжат рост сварные трубы, а вместе с ними немного поднимется рулонный прокат для их изготовления. Скорее всего, прибавит арматура, что показывает устойчивое состояние строительной отрасли и легкую нехватку металлолома. В то же время, металлурги пока не намерены пересматривать котировки на непокрытый листовой прокат.
Достаточно важным событием для российской металлургической отрасли стала прошедшая на прошлой неделе в Екатеринбурге выставка «Иннопром-2023». На ней, в частности, было анонсировано несколько интересных проектов.
Так, «Новосталь» планирует построить в Ростовской области новый завод с электропечью, на котором будет ежегодно выпускаться до 1 млн. т горячекатаного проката. Это первый крупный проект создания новых мощностей по выплавке стали, анонсированный за последние полтора года.
Сравнительно небольшой объем (1 млн. т в год) позволит новому предприятию без больших проблем вписаться в российский рынок. Он фактически заменит на нем украинскую группу «Метинвест», которая как раз ежегодно поставляла в Россию до 1 млн. т стальной продукции, причем, по большей части, листового проката. Излишки, конечно, будут, но ко времени запуска нового производства может увеличиться внутренний спрос на данную продукцию.
В рамках другого проекта группа ММК и ЦНИИчермет им. И.П. Бардина подписали соглашение о совместном создании импортозамещающего производства кованых валков для станов горячей и холодной прокатки. Фонд развития промышленности (ФРП) предоставляет на эти цели льготный кредит в размере 5 млрд. руб., что составит около 35% от общего объема инвестиций.
В настоящее время порядка 80% кованых рабочих и опорных валков, используемых российскими предприятиями, поступает из-за рубежа. Реализация данного проекта должна уменьшить долю импорта до около 30%. При этом впервые за многие годы полноценным участником проекта по созданию новых мощностей станет главный российский металлургический НИИ.
Как неоднократно заявлял генеральный директор ЦНИИчермет им. И.П. Бардина Виктор Семенов, отечественная металлургия должна и будет развиваться на базе отечественного оборудования. Хотя, понятно, процесс создания своей технической базы будет идти не быстро и не просто. Китайским производителям металлургического оборудования понадобилось, например, не менее 10-15 лет, причем они, как правило, могли опираться на заимствованные западные технологии.
Так или иначе, подвижки идут. Даже автомобилестроение подает признаки жизни, хотя и с отчетливым китайским акцентом. По крайней мере, «АвтоВАЗ» за первое полугодие получил по железной дороге почти в полтора раза больше металлопродукции, чем годом ранее. Учитывая, что простои на нем начались в марте 2022 г., эффект низкой базы там, конечно, присутствует, но восстановление налицо.
Расширение видимого спроса на российском рынке помогает отечественным металлургам компенсировать спад на экспорте. Как сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ, в первом полугодии перевалка черных металлов сократилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. И сложно рассчитывать на то, что во второй половине текущего года обстановка изменится к лучшему.
Падение курса рубля позволило российским металлургам понизить экспортные котировки на заготовку до минимального уровня с ноября 2020 г. Впрочем, главную роль в этом падении сыграло ухудшение обстановки в Турции. Экономика там по-прежнему испытывает очень большие проблемы, а внутренние цены на сортовой прокат продолжают опускаться.
Правительство Турции с 10 июля повысило ставку НДС от 18 до 20%, была также увеличена ставка корпоративного налога. Сообщается, что дополнительные средства будут использоваться для финансирования восстановительных работ на юго-востоке страны. Однако на местный бизнес эти нововведения оказали негативное влияние. Кроме того, хотя прошел уже почти месяц, турецкий финансовый сектор все еще «переваривает» резкий подъем процентных ставок в конце июня.
Не зря турецкий президент Реджеп Эрдоган в последнее время подает сигналы о своей лояльности западному делу. Деньги Турции сейчас нужны просто позарез. А внутри страны взять их неоткуда. Россия в этом плане намного более устойчива.
Ближе к середине июля немного подскочили цены на черные металлы в Китае, хотя в целом рынок остался в пределах интервала, который он занимает еще в апреле. Подорожала до значимых величин только железная руда, но это можно объяснить укреплением юаня.
В последние дни доллар немного ослабел по отношению ко всем основным валютам. Это связано с тем, что инфляция в США в июне понизилась до наименьшего значения более чем за два года (3,0%, совсем как у нас). Поэтому предполагается, что ФРС США больше не будет поднимать ставки или ограничится одной минимальной прибавкой.
Под воздействием этих ожиданий и цены на нефть впервые с конца апреля превзошли отметку $80 за баррель. Ряд западных источников в связи с этим разразились стенаниями от того, что российская нефть превысила «потолочные» $60 за баррель на условиях FOB. И вообще, дисконт на нее в последнее время сильно уменьшился, что хорошо и для рубля, и для российского бюджета.
Правда, устойчивое повышение нефтяных котировок возможно только при условии ускорения китайской экономики, а с этим пока сложновато. В этом году рынок стали в Китае ведет себя по принципу: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». Периодически на нем возникают оптимистичные ожидания, которые через некоторое время развеиваются как дым, а потом конденсируются снова.
На этот раз причиной ценового роста стало заявление Народного банка Китая о продлении мер поддержки для строительной отрасли до конца 2024 г. Также все ждут скорого заседания Политбюро КПК, на котором должна будет рассмотрена ситуация в экономике.
В то же время, сильным негативным сигналом для Китая стали данные о падении экспорта в июне на 12,4% по сравнению с тем же месяцем годичной давности. Это самый сильный спад с весны 2020 г. Причем внешние поставки в США сократились на 12%, а в Евросоюз — остались на том же уровне, что и в прошлом июне.
Консалтинговая компания Mysteel между тем прогнозирует, что видимое потребление стальной продукции в Китае во втором полугодии уменьшится на 5,7% или 27,8 млн. т по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Причем вторая половина прошлого года была не самым лучшим временем. В частности, на него пришлось несколько продолжительных локдаунов, а цены на стальную продукцию падали, опустившись на минимальные уровни в начале ноября. В общем особого роста в экономке в Mysteel, очевидно, не ждут.
Таким образом, скорее всего, никаких подарков из-за рубежа в ближайшие месяцы для нас не будет. Все успехи и достижения придется создавать самим.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

«Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет». Эта фраза не единожды и даже не дважды приходила на ум на прошлой неделе, когда рубль валился вниз как подкошенный под меланхоличные комментарии руководства Центрального банка РФ.
Падение рубля до более 90 за доллар — это действительно очень неприятно. Хотя бы потому, что теперь почти никто не сомневается, что скоро (а по мнению ряда «экспертов», и очень скоро) курс дойдет до сотни, причем процесс на этом не остановится.
Конечно, жить можно и с этим. Если кто помнит, в 90-е годы курс рубля за год мог упасть в разы. А турецкая лира за последние два года подешевела втрое по отношению к доллару, и Турция от этого не развалилась. Однако в таких случаях экономика страны переориентируется на устойчивую и конвертируемую иностранную валюту, а свои «деревянные» рассматривает как расчетные единицы для краткосрочных операций.
Нам в условиях санкций и запрета на ввоз в страну наличных долларов и евро такой вариант не подходит. Да и обидно отказываться от рубля, который столько лет возвращал к себе доверие, а теперь может за какие-то месяцы его лишиться.
При этом нельзя сказать, что наши «пианисты» так уж безбожно режут слух фальшивыми нотами. Прежде всего, логика обстоятельств всегда сильнее логики намерений, а что тут сделаешь, когда обстоятельства сложились не в пользу рубля?
Согласно объяснениям Центробанка, российская валюта, снижающаяся с конца июня 2022 г., реагирует подобным образом на изменение баланса между экспортом и импортом. Объемы ввоза в страну восстановились до уровня 2021 г., тогда как экспорт резко упал. Более того, согласно заявлениям некоторых экспертов, часть российского экспорта оплачивается в индийских рупиях и прочих «мягких» валютах, которые ни в Россию ни введешь, ни на месте не используешь. Поэтому предложение долларов и евро уменьшилось, тогда как спрос не изменился. Потому стали они дефицитными и растут в цене по отношению к бедному «рубленку».
Помимо этого указываются и другие нюансы. Согласно многим комментариям, дешевый рубль — хорошо для бюджета. Нефть дорожать не желает несмотря на заявления стран ОПЕК+ о сокращении добычи и экспорта. Причины — спад в западных странах и отсутствие роста в китайской экономике. Поэтому понижение курса дает возможность получить больше рублей с одного экспортного барреля нефти и уменьшить дефицит бюджета.
Иначе его бы потребовалось закрывать с помощью эмиссии, а это привело бы к увеличению инфляции. А согласно заявлению Центробанка, его главная задача — как раз снижать инфляцию, а до курса рубля ему дела никакого нет. Валютный рыночек, мол, сам порешает.
Да, на протяжении последних месяцев ослабление рубля не оказывало никакого влияния на уровень инфляции. Она вся выплеснулась в марте-апреле 2022 г., когда достигала 20% годовых. Тогда цены резко взлетели, в частности, под влиянием временного обвала рубля, а затем просто стабилизировались на этом уровне. Однако есть очень серьезный риск того, что новое падение в июне-июле 2023 г. установит и новые курсовые и ценовые ориентиры. Раньше рубль просто не воспринимался как падающий, а его колебания в пределах 65-80 руб. за доллар выглядели нормой. Сейчас меняется восприятие.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина признала, что снижение курса рубля способствует раскрутке инфляционных ожиданий. В связи с этим на очередном заседании совета директоров ЦБ 21 июля, скорее всего, будет принято решение о повышении ключевой ставки.
Правда, к выправлению внешнеторгового баланса это никакого отношения не имеет, но, как некогда заметил американский психолог Абрахам Маслоу, «когда у тебя в руках молоток, все задачи кажутся гвоздями». Центробанк привык пользоваться именно изменением ставок, и о других инструментах не помышляет.
Однако, если взять еще одну популярную цитату, «в действительности все не так, как на самом деле». В ситуации с рублем есть и другие, не афишируемые параметры. Прежде всего, диспропорции между экспортом и импортом — не единственный и не главный источник его ослабления. Внешнеторговый баланс России остается положительным. Экспорт по-прежнему превышает импорт, хотя сальдо действительно сократилось в несколько раз. Хочется также верить, что какая-то весомая часть импорта оплачивается теми же юанями, рупиями и, не побоюсь этого слова, рублями.
Сообщения о миллиардах рупий, застрявших на индийских счетах, выглядят странновато. Возможно, переправить их в Россию сложновато. Центробанк уже почти полтора года заявляет о выстраивании механизма международной торговли за нацвалюты, но, видать, что-то не выходит каменный цветок. Но ведь из любого положения есть, как минимум, три выхода.
Одна российская металлургическая компания еще в прошлом году рассказывала на конференциях МСС о том, как она экспортирует стальную продукцию, получает за нее местные валюты, а потом закупает на них на месте что-то полезное и продает за рубеж — в Россию или еще куда. Понятно, что это сложно, геморройно и требует высокой квалификации и изворотливости. Но такие вещи надо просто брать и делать.
Впрочем, это так, небольшое отступление. Главный источник дефицита валюты в России — это вывоз капитала. Как отмечает агентство «Прайм», за последние пять кварталов из страны было выведено различными способами (как правило, полностью легальными) порядка $160 млрд. И это больше, чем оставшееся положительное сальдо российского внешнеторгового баланса. После известных событий в конце июня данный процесс ускорился. Вот, собственно, и все объяснения.
Поэтому реальным методом укрепления рубля в нынешних условиях может стать принятие мер по ограничению данного вывоза. Собственно, для этого не надо ничего выдумывать, просто вернуться к тем порядкам, что существовали у нас одно время весной-летом 2022 г. И тогда, если кто помнит, рубль очень даже укреплялся. Может, даже слишком сильно укреплялся, но тогда и импорт очень резко просел.
Правда, вероятность принятия каких-либо решений в этом направлении пока выглядит весьма низкой. Скорее всего, будут использованы иные методы. Возможно, на российскую валютную биржу заведут иностранные компании из дружественных стран, что должно увеличить предложение долларов. Вероятно, 21 июля будет существенно повышена ключевая ставка. Такие действия обычно способствуют повышению курса национальной валюты, хотя далеко не факт, что в нынешних условиях это сработает.
Может быть, Центробанк РФ когда-нибудь допилит систему международных платежей в нацвалютах, что тоже уменьшит давление на рубль. Может быть. А если инфляция подскочит, с ней начнут бороться, что, очевидно, будет включать и некие меры по стабилизации рубля.
В комментариях к событиям прошедшей недели присутствует еще мысль о том, что колебания курса на самом деле мало влияют на инфляцию и российскую экономику в целом. И последние 12 месяцев, когда рубль падал, а экономика сначала восстанавливалась, а потом росла, это вроде бы подтверждают.
Да, рыночная конъюнктура сейчас благоприятная. Это видно по российскому рынку стали. В июле поднялись заводские цены не только на сварные трубы и прокат с покрытиями, но и на арматуру. Дистрибьюторы сообщают об устойчивом поступлении заказов и крепких продажах. Один только холоднокатаный прокат, как бедный родственник.
Импортозамещение реально идет, российские производители порой не справляются с резко возросшими заказами. Реализуются многочисленные инвестиционные проекты в приоритетных отраслях. Причем, что характерно, для них находятся деньги в нужных количествах и на хороших условиях. Рост государственных расходов создал дополнительный спрос. Дефицит рабочей силы разогревает рынок труда, а увеличивающиеся доходы населения обеспечивают подъем сферы услуг и расширение продаж потребительских товаров. И какая, в принципе, разница, сколько стоит доллар, при таких-то исходниках?!
Логика в этом есть. И все же, негативные изменения могут накапливаться медленно и постепенно, а потом происходит качественный скачок. Кроме того, валютный рынок — это очевидное тонкое место для российской экономики. А где тонко, там порой и рвется.
Во всяком случае, металлургические компании теперь, скорее всего, поднимут котировки на все виды стальной продукции в августе. Причем ослабление рубля является одним из основных обоснований. Также заводы не исключают подорожания металлолома. Некоторые предприятия как раз приподняли закупочные цены на прошлой неделе.
Между тем, мировой рынок остается в состоянии стагнации. Спроса нет почти нигде. До конца лета прогнозируется либо стабилизация на низком уровне, либо незначительный спад. Более существенному падению помешает сырье. Ни металлолом, ни железная руда не должны сильно подешеветь в ближайшем будущем.
Вторая половина лета, по-любому, спокойной не будет. Но все-таки хочется, чтобы она не была слишком беспокойной.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Экономика и политика тесно связаны между собой, причем связь эта неразрывная и двусторонняя. События прошедших выходных, реакция на них, прежде всего, в информационном пространстве, и оценка всего в комплексе обернулись новым падением курса рубля, рухнувшего по направлению к отметке 90 руб. за доллар.
И что бы ни говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов о желательности для экономики курса в пределах 80-90 руб. за доллар, ослабление национальной валюты сегодня становится сильнейшим негативным фактором для страны.
Разворот рубля в сторону снижения начался ровно год назад — в конце июня 2022 г. За это время доллар подорожал по отношению к рублю почти на 68%, юань — на 57% и даже кризисная инфляционная турецкая лира — на 9,5% (по данным на вторую половину дня 30 июня). Конечно, надо учитывать то, что курс рубля летом прошлого года считался сильно завышенным, тем не менее, такой обвал — это нечто из ряда вон выходящее. Даже если брать за точку отсчета начало текущего года, минус 26% по отношению к доллару — это много.
Безусловно, падение рубля отражает те негативные процессы, с которыми столкнулась российская экономика за последние без малого полтора года. Прежде всего, это плата за падение экспортных продаж при сохранении прежнего уровня расходов на импорт и за сокращение государственных доходов, важным источником которых являются поступления от экспорта нефти.
За последние 12 месяцев котировки на нефть «брент» на Лондонской бирже понизились на 32%. К ним надо добавить те скидки и дополнительные расходы, с которыми сопряжен экспорт российской нефти в режиме санкций.
Сами ограничения отечественные компании научились эффективно обходить. Как, в частности, сообщало агентство Bloomberg (хотя как источник объективной информации оно может пониматься очень условно), в мае 2023 г. российский экспорт нефти в баррелях в день практически не уступал уровню февраля прошлого года. Однако доходы от него уменьшились. Причем главной причиной удешевления нефти специалисты называют экономические проблемы западных стран и Китая. А если посмотреть в самый их корень, мы увидим все те же антироссийские санкции и их негативные последствия для их же инициаторов.
Интересно, что до сих пор понижение курса рубля не приводило к каким-то страшным катаклизмам. В отличие, например, от Турции, зависящей от импорта сырья. Для нее увеличение затрат на приобретаемые за рубежом нефть, природный газ, уголь, металлолом, железную руду приводит к постоянному росту себестоимости производства и сводит на нет те преимущества, которые могли бы получать от дешевой лиры местные промышленники.
В России ситуация совсем другая. Рублевые цены на горючее, металлолом, руду, тарифы на электроэнергию и перевозки, безусловно, поднялись по сравнению с показателями годичной давности. Но этот рост значительно меньше, так сказать, по модулю, чем падение валютного курса.
За подешевевший рубль заплатило население, правда, авансом, весной 2022 г., когда произошел основной скачок цен на потребительском рынке. Изменения с тех пор были относительно небольшими, что и показывает 3%-ный уровень инфляции по итогам мая 2023 г. По-настоящему много потеряли только любители зарубежного отдыха и туризма, а также более обеспеченные слои, у которых в потреблении выше доля импортных товаров.
Более серьезный «валютный налог» выплачивает отечественный бизнес. Ему по-прежнему необходим импорт материалов, оборудования, комплектующих. Без разницы, плановый, параллельный или китайский, но за него все равно приходится платить все более «легкими» рублями.
Не так давно Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что совокупная выручка российских компаний в 2022 г. выросла на 94% по сравнению с предыдущим годом и достигла небывалого рекордного значения — около 1270 трлн. руб. Но прибыль при этом увеличилась только на 5,3%, составив 31,1 млрд. руб. Похоже, разительное несоответствие двух показателей вызвано увеличением затрат российского бизнеса, причем, подорожание импорта (включая логистику и прочие сопутствующие расходы) сыграло там очень заметную роль.
Кстати, налогооблагаемые доходы населения прибавили в прошлом году 19% по сравнению с 2021 г. до 41,4 трлн. руб. Очевидно, одним из важных факторов стало повышение уровня оплаты труда. Реальное импортозамещение существенно повысило спрос на квалифицированную рабочую силу.
Обидно, что валютный шторм обрушился на российскую экономику в тот момент, когда дела в ней шли совсем не плохо. Данные Росстата за май показали рост ВВП на 5,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Промышленность прибавила 7,1%, обрабатывающие производства — 12,8%, строительство — 13,5%.
Понятно, здесь необходимо учитывать эффект низкой базы. На май и июнь прошлого года пришелся самый трудный период для экономики, испытавшей шок от санкций и разрыва экономических связей. Но во многих случаях результаты мая 2023 г. превысили докризисный уровень 2021 г. То есть, идет не только восстановление, но и реальный рост. Причем отнюдь не только в оборонке.
Участники российского рынка стали весьма оптимистично оценивали перспективы на июль. Металлургические компании поддерживали достаточно высокие объемы производства несмотря на сокращение экспортных поставок. Дистрибьюторы отмечали поступление большого количества заказов на сварные трубы, прокат с покрытиями, арматуру. Улучшалась обстановка в секторе горячекатаного проката. В июле прогнозировалось умеренное подорожание почти по всему рынку стальной продукции, причем вызванное, в первую очередь, активным спросом.
В принципе, эти прогнозы и сейчас можно считать обоснованными и справедливыми. Если удастся вернуть валютный рынок в норму. Основной риск здесь заключается в том, что рубль может лишиться доверия населения и бизнеса. В последние месяцы его выручала низкая инфляция, но при дальнейшем падении курса она может резко ускориться. И заявление Центробанка РФ о повышении ключевой ставки в июле здесь ничем не поможет, а только навредит.
В Госдуме вот только что приняли закон о программе долгосрочных сбережений россиян, которая должна заработать с 1 января 2024 г. Но о каких сбережениях может идти речь, если рубль может подешеветь на 68% за 12 месяцев, пусть и только на валютном рынке?! И как можно с такими вихляниями рассчитывать на более широкое использование рубля в международной торговле?! Чтобы рубль воспринимался как серьезная валюта, которую можно использовать для сбережений, он должен быть прочным! Иначе мы опять вернемся к долларам в стеклянных банках и под матрасами.
Как можно укрепить рубль? Прежде всего, в военно-политической сфере, которая, как мы видим, тесно связана с экономикой. Однако наша марафонская дистанция продолжается, и мы пока еще не знаем, как далеко до финиша. Если же опираться только на экономические меры, то решением может стать, прежде всего, увеличение экспорта. Причем, не сырья, а готовых изделий, энергоносителей и продовольствия. То есть, того, что по-настоящему востребовано, приносит хорошую прибыль и ни при каких обстоятельствах не попадет под антидемпинг.
На прошлой неделе президент призвал поддержать российские бренды. На что ряд комментаторов отметили, что российская продукция по определению всегда будет дороже зарубежной. Поскольку на мировом рынке доминируют компании глобального масштаба, способные снижать цену за счет массового производства и отлаженной логистики. Кроме того, они могут запросто демпинговать, зарабатывая за счет дальнейшего сервиса, модернизации, поставок запчастей и комплектующих.
Да, возможность выгодно покупать за рубежом нужные товары и не заморачиваться со всеми сложностями и недостатками отечественного производства — это наша давняя традиция, еще с незапамятных времен. Однако ни одна успешная промышленная держава не избежала в своем развитии этапа жесткого протекционизма, когда текущее удобство для населения и бизнеса сознательно приносили в жертву будущим достижением.
В США именно по этой причине (а вовсе не из-за каких-то «афроамериканцев») в середине XIX века вспыхнула Гражданская война, в которой погибло больше американцев, чем в обоих Мировых войнах, вместе взятых. Главное, чтобы жертвы оказывались не напрасными, чтобы российская промышленность, для которой защитные барьеры парадоксальным образом выстроены снаружи, воспользовалась возможностью. А затем расширяла обороты за счет экспорта в дружественные и нейтральные страны.
Этот процесс уже начинался до 2022 г., теперь же его надо возобновлять. Для этого необходимо выстраивание альтернативной системы международной торговли. Здесь надежды возлагаются на саммит БРИКС, назначенный на 22-24 августа. Однако надо понимать и то, что сопротивление со стороны США, которым реально светит слом монополии доллара, будет страшное. Ближайшие два месяца станут непростыми для всех.
А напоследок несколько слов о мировом рынке стали. За последнюю неделю там не произошло никаких важных событий. Разве что в Китае опять ожидают принятия какой-то грандиозной программы стимулирования экономики. Благодаря этому цены на стальную продукцию на местном рынке немного выросли, а экспортные стабилизировались.
В Турции всю прошлую неделю праздновали Курбан-Байрам, а теперь там снова начинаются будни. Июнь там заканчивался откровенно плохо — с падением лиры, отсутствием ценовых ориентиров, парализованным рынком стальной продукции. В отношении нее трудно что-то предсказать, будем смотреть и наблюдать.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Заканчивается беспокойный июнь, впереди июль — традиционно, самый спокойный месяц в году. На российском рынке стали сохраняется стабильность без существенных ценовых подвижек, да и на мировом колебания постепенно сглаживаются.
Отечественные металлургические компании в июле намерены поднять котировки только на прокат с покрытиями. Спрос на него хороший, да стоимость относительно невысокая. Оцинкованный и окрашенный прокат, в отличие от других видов листовой продукции, избежал резкого подъема в первом квартале, а теперь понемногу берет свое.
Дистрибьюторы положительно оценивают перспективы сварных труб. Видимое потребление в этом секторе возросло, приходят новые заказы. Очевидно, в июле эта продукция прибавит в цене. Может немного подорожать и арматура: со стройкой дела обстоят вполне благополучно. А вот горячекатаный прокат слегка подешевел. Этой продукции на рынке сейчас много (хотя и не всех толщин), в том числе, и по причине скромных объемов российского экспорта.
Новости по теме
07:08, 05 июня 2023 г. [Концы бесконечности. Российский и мировой рынок стали: 28 мая – 4 июня 2023 г.] Концы бесконечности. Российский и мировой рынок стали: 28 мая – 4 июня 2023 г.
За рубежом сейчас и в самом деле много не заработаешь. Относительное спокойствие, что пришло в последнее время на мировой рынок стали, обусловлено, главным образом, не оправдавшимися ожиданиями и не сбывшимися надеждами. Китай, Турция, Евросоюз — все они не показали никакого улучшения во втором квартале.
Турцию вообще непрерывно лихорадит с осени 2021 г., когда подскочили вверх цены на энергоносители. Когда-то Тургут Озал, президент страны с 1989 по 1993 гг., при котором Турция начала свой путь от дыры на окраине цивилизованного мира к одной из наиболее динамично развивающихся новых рыночных стран, изрек: «Слава Аллаху, что у нас нет нефти». В те времена эти слова означали, что Турции, не имеющей даровых доходов от продажи природных ресурсов, надо форсировать индустриализацию и зарабатывать на изготовлении промышленных товаров. Но сегодня, когда в Турции уже построена современная экономика, а жизненный уровень населения значительно возрос, оказалось, что быть крупным импортером нефти, газа и угля совершенно не круто. В последние два года вся турецкая экономическая политика — это непрерывная эквилибристика на краю пропасти.
Тогда, в 2021-м, турецкое правительство сознательно пожертвовало национальной валютой, сбросив процентные ставки до 8,5% при многократно большем уровне инфляции. С начала октября 2021 г. по сегодняшний день турецкая лира обесценилась почти в три раза по отношению к доллару. Зато несмотря на все проблемы с импортом энергоносителей Турция благодаря дешевым деньгам показывала достаточно высокие темпы экономического роста.
Жить в стране, тем не менее, становилось все труднее, из-за чего президент Эрдоган лишь «на тоненького» выиграл майские президентские выборы. После них было решено менять экономическую политику. Центральный банк Турции 22 июня повысил ставку до 15%, но тем самым лишь спровоцировал новое падение национальной валюты. Получилось, что называется, ни два, ни полтора. При инфляции под 40% ставку надо было поднимать решительнее.
В итоге с конца мая лира подешевела более чем на 25%. Но здесь могут возникнуть интересные последствия для турецких металлургов. Со второго квартала прошлого года отрасль находилась в глубоком кризисе. Резкий скачок цен на энергоносители привел к увеличению себестоимости. Турецкая стальная продукция начала утрачивать конкурентоспособность как на мировом, так и на внутреннем рынке.
До осени 2022 г. турецкие заводы работали на дешевых российских полуфабрикатах. Но неуемный санкционный пыл Европейской комиссии, пригрозившей запретить импорт турецкого проката, если если его производители не прекратят использовать российский металл, заставил турок если не отказаться полностью от этой безусловно выгодной для них экономической модели, то существенно сократить ее масштабы.
А в конце прошлого года турецкие власти, готовясь к выборам, практически стабилизировали курс лиры при сохранении инфляции в десятки процентов. Национальная валюта оказалась переоцененной, а турецкая стальная продукция — слишком дорогостоящей, учитывая еще затраты на импортируемые энергию и сырье. По итогам первых пяти месяцев 2023 г. турецкий экспорт стали упал более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а производство — почти на 20%.
Сейчас будет интересно посмотреть, как в Турции изменятся цены на стальную продукцию в лирах. В данный момент стоимость арматуры на местном рынке упала до $570-580 за т EXW без НДС в долларовом эквиваленте. Это уже дает туркам возможность конкурировать с поставщиками сортового проката из Юго-Восточной Азии, стран Персидского залива и Северной Африки. Правда, сильно понизить цены им не даст металлолом, примерно две трети потребностей в котором покрываются за счет импорта.
Тем не менее, после новой девальвации лиры турецкий рынок стали может немного оживиться. До этого три недели он пребывал в совершенно летаргическом состоянии, поэтому, что бы там ни случилось, все равно будет прогресс. Но вот российским экспортерам на этом направлении по-прежнему ловить особенно нечего.
В Китае с 22 по 24 июня отмечали Праздник драконьих лодок, так что деловая активность на прошедшей неделе была низкой. Однако как раз именно в те дни на национальном рынке стали происходила переоценка ценностей. С конца мая по середину июня цены там поднимались, а сейчас снова пошли на спад.
Причина этого поворота крайне проста: кончился заряд положительных ожиданий. Всю первую половину июня в Китае (да и в других странах тоже) надеялись, что правительство КНР вот-вот пойдет на решительные шаги по стимулированию экономического роста. Статистика за май показала, что с быстрым восстановлением экономики после трех ковидных лет дело не складывается. Темпы роста капиталовложений составили только 4% по сравнению с маем 2022 г., промышленного производства — 3,5%, инвестиции в недвижимость вообще сократились на 7,2%. Причем все эти показатели были хуже, чем в апреле.
Нет, китайские власти действительно пытаются поддержать экономику. Народный банк Китая понизил процентную ставку аж на 10 п.п. Ранее заявлялось об увеличении объемов выпуска инфраструктурных облигаций. Но, в отличие от 2008-2009 гг., Китай больше не собирается вытягивать на себе всю мировую экономику, искусственно раздувая свой рост. И вообще, страна сейчас проходит свою перестройку, стремясь перейти с экстенсивного пути развития, на котором уже достигнут потолок, на интенсивный.
Еще одной причиной смены курса на китайском рынке стали оказалось ухудшение погоды. В северо-восточные провинции пришла жара, а юг и приморье заливает дождями. У китайских энергетиков это вызывает тревогу и беспокойство. По оценкам China Electricity Council (CEC), пиковое потребление электроэнергии этим летом может возрасти на 6-7% по сравнению с прошлым годом. И это может стать проблемой.
На первый взгляд, это странно. По данным китайской National Energy Administration, за первые пять месяцев 2023 г. инвестиции в энергетическую отрасль достигли 238,9 млрд. юаней ($33,4 млрд.), что на 62,5% больше, чем в тот же период прошлого года. При этом более 40% от этой суммы было направлено на развитие солнечной энергетики. Ее установленные мощности в конце мая достигли 450 ГВт, что на 38,4% больше, чем годом ранее. Это 16,9% от всей китайской энергетики.
Однако десятки миллиардов долларов, вкладываемые в китайские солнечные станции, почему-то не дают эффекта. В январе-мае 2023 г. на их долю пришлось всего 3,1% от выработки электроэнергии в стране. АЭС, установленные мощности которых почти в 8 раз меньше, выдали на 70% больше.
И это, между прочим, проблема не только Китая. В последние годы острый дефицит электроэнергии стал хронической болезнью для многих стран. Пакистан, Бангладеш, ЮАР, Шри Ланка, Вьетнам — это только те примеры, которые сейчас на слуху. Сезонные проблемы регулярно возникают в Китае, Индии, Японии, на Тайване, в 2021 г. от засухи и падения выработки электроэнергии на ГЭС страдали Южная Америка и Западная Европа. Потребности экономики и населения в энергии растут, а вот производство отстает.
Как признает парижское Международное энергетическое агентство (International Energy Agency, IEA), в 2020-2022 гг. темпы роста генерации электроэнергии в развивающихся странах замедлились. Основная причина заключается в том, что международные финансовые организации и частные банки в рамках «климатической» повестки отказываются предоставлять средства на проекты, связанные со строительством угольных или газовых энергоблоков. А альтернативная энергетика солнца и ветра требует применения передовых технологий по управлению электросетями, которые для бедных африканских и азиатских стран слишком дороги.
Даже в западных странах проведение климатической политики становится изрядным обременением. В последние месяцы в металлургической отрасли Евросоюза валом пошли проекты «декарбонизации» производства. По данным региональной ассоциации Eurofer, их количество перевалило уже за 60. Металлургические компании планируют массовую замену доменных печей электродуговыми, осваивают выпуск восстановленного железа, заявляют о скором внедрении водородных технологий и переходе на возобновляемую энергетику.
Однако при этом возникают ряд сложностей. Прежде всего, все эти проекты весьма затратны и могут осуществляться только при условии государственного субсидирования на суммы в сотни миллионов евро. Несколько таких грантов в разных странах уже получила группа ArcelorMittal, достигнуто соглашение в отношении проекта германской Salzgitter, на очереди остальные.
Вторая проблема заключается в том, что пока не прояснены вопросы о том, где получать правильный «зеленый» водород в требуемых объемах и по приемлемым ценам, и как с помощью прерывистой солнечной и ветряной генерации обеспечить непрерывное металлургическое производство. Теоретически, можно строить монструозные накопители электроэнергии на «мегабатарейках», но это тоже очень дорого, а также требует сотен тысяч тонн меди, лития, никеля и других металлов и материалов, которые Европа импортирует. И кто-то там говорил о неприемлемой зависимости от российских нефти и газа?!.
Наконец, климатически правильная стальная продукция будет обходиться дорого. В Европе уже ставится вопрос о создании рынка «зеленой» стали, которая производится с уменьшенными выбросами углекислого газа. По расчетам производителей, премия для горячекатаного проката с удельными выбросами в 1 тонну CO2 на тонну стали (при традиционном доменно-конвертерном процессе этот показатель составляет около 2,1 тонны) должна составлять порядка 200-300 евро за т. Европейский рынок стали и так премиальный, а с «зеленью» цены там вообще усвистят в зенит.
Причем безумие заразительно. Проекты «зеленой» металлургии, не содержащие в себе никакой потребительской ценности, кроме резкого увеличения себестоимости, анонсируются в Китае, Индии, Таиланде, Бразилии.
Так что, может, это и хорошо, что мы так решительно расплевались с Западом?! У российских металлургов, право, есть и более насущные задачи, чем бороться с пресловутым глобальным потеплением.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Главным событием прошедшей недели стал, безусловно, Петербургский международный экономический форум ПМЭФ-2023. Прежде всего, он был важен тем, что на нем в очередной раз были подняты вопросы о том, какое будущее ждет российскую экономику в ближайшей и долгосрочной перспективе, и каким его представляют и хотят видеть в правительстве, финансовой сфере и в деловых кругах.
Первый вывод заключается в том, что российская экономика совсем не плохо держит себя под сосредоточенным ударом санкций. По словам президента, по итогам текущего года рост ВВП может составить 2%. Достигнута макроэкономическая и финансовая стабильность.
Как, в частности, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось. Текущий уровень годовой инфляции составляет всего 2,9%, хотя и с тенденцией к повышению, а в 2024 г. ожидается ее стабилизация вблизи целевого уровня 4%.
Тем не менее, о наличии серьезных проблем сигнализирует нестабильный курс рубля. На прошлой неделе он опускался до более 85 руб. за доллар, а в целом с начала года ослабление отечественной валюты составило около 20%. Слишком много.
Падение рубля обусловлено такими факторами как высокий уровень бюджетного дефицита, вызванного как значительным увеличением расходов, так и недобром по доходам, а также изменение внешнеторгового баланса. Российский импорт практически восстановился до уровня 2021 г., тогда как экспорт упал на десятки процентов. Из-за этого высокий спрос на валюту сталкивается с дефицитом предложения. Там есть еще причины, но эти, пожалуй, самые главные.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что оптимальным курсом для рубля является соотношение 80-90 руб. за доллар. Около полугода назад он называл другой интервал — 70-80 руб., и все в итоге свершилось по словам его.
Дешевеющий рубль хорош, прежде всего, тем, что позволяет повысить наполнение бюджета в условиях снижающихся долларовых цен на нефть. Котировки на сорт «брент» с конца апреля находятся ниже отметки $80 за баррель и совершенно не видно, за счет чего они могут туда вернуться.
Вообще, мировой рынок нефти в последние месяцы производит впечатление дырявой бочки. Страны ОПЕК+ пытаются ее латать, заявляя о дальнейшем сокращении объемов добычи. Но эти заплатки срывает, как наводнение плотину, напор негативных экономических ожиданий.
ФРС США на прошлой неделе не стала повышать ключевую ставку, оставив ее на уровне 5,0-5,25%. Но ее руководство дало понять, что процесс будет продолжаться. Кроме того, ставку поднял Европейский центральный банк. Всего до 4,0%, но это лишь на 0,25 п.п. меньше, чем на предыдущем пике в 2008 г. А дорогие деньги — это проблемы с рефинансированием кредитов, рост затрат на обслуживание государственного долга, повышение риска банкротств и другие неприятности.
Эльвира Набиуллина в одном из своих выступлений констатировала, что мирового финансового кризиса, к счастью, удалось избежать. Возможно, она поспешила. Ничего еще не кончилось. Бомбы, подложенные под западные экономики еще в 2020-2021 гг., никем не разряжены и потихоньку попыхивают фитильками. Конечно, вероятность взрыва сейчас невелика, но, как известно, сколько веревочке не виться, а рано или поздно наступит конец.
Так вот, в текущей ситуации, когда мировая экономика находится на спаде из-за проблем не только в западных странах, но и в Китае, у дешевого рубля есть несомненные преимущества. Но они являются преимуществами только для страны, у которой большая часть доходов приходится на сырье и продукцию первых переделов с внешним ценообразованием на мировых рынках и биржах.
Если российские экспортеры могут продать свою продукцию за рубеж лишь по той цене, за которую ее купят, то низкий курс отечественной валюты выгоден и им, и стране, так как позволяет поднять рублевые доходы, которые можно будет потратить на что-то полезное и нужное. Кроме того, слабый рубль помогает импортозамещению в том плане, что удорожает импорт.
Однако дорогой импорт полезен только в том случае, если отечественная экономика способна обеспечить ему адекватную альтернативу. Но этого у нас пока что, увы, и близко нет. Да и не должно быть, так как в современной экономике принципиально невозможно находиться на полном самообеспечении. Международная кооперация всегда была, есть и будет, просто на место недружественных стран приходят дружественные либо параллельный импорт.
И тут дешевый рубль становится большой проблемой, так как он увеличивает расходы российского бизнеса и разгоняет самую неприятную инфляцию издержек. Снижение курса также бьет по потребительскому рынку и обесценивает рублевые сбережения, как бы их не пропагандировала та же Эльвира Набиуллина. Остается надеяться только на то, что в дальнейшем экономические предпосылки изменятся, и рубль найдет в себе силы укрепиться. Например, доходы, сдвинутые вправо, наконец поравняются с расходами, которые сдвинули влево. В таком перекособоченном виде бюджет смотрится некрасиво.
Здесь возникает новый вопрос: а куда, собственно, движется российская экономика? Основные направления, пожалуй, не вызывают особых сомнений. Приоритетом является развитие реального сектора — промышленности, строительства, транспорта. Обеспечение технологического суверенитета — это огромных масштабов работа по созданию новых производств и освоению сотен тысяч новых видов продукции. И на этом пути нас поджидает огромное количество ухабов и выбоин, а несомненные успехи оказываются перемешанными с неудачами.
Но в общем, цели вполне понятны. А вот по поводу средств можно спорить. На ПМЭФ в очередной раз возникла дискуссия между «рыночниками» и «государственниками». Точнее, Эльвира Набиуллина предупредила, что необходимость целенаправленной структурной перестройки экономики не должна приводить к ограничению частной инициативы и возвращению центрального планирования. Затем министр финансов Антон Силуанов заявил, что надо сокращать бюджетные расходы, чтобы снизить инфляционное давление на экономику. В частности, по его мнению, нужно уменьшить уровень финансовой поддержки промышленности. Наконец, на ПМЭФ прозвучали призывы к возобновлению процессов приватизации.
Все эти заявления вызвали массу комментариев в социальных сетях, зачастую весьма резких и негативных. Однако представляется, что конфликт в немалой степени вызван недопониманием и проблемами с терминологией.
Начнем с того, что в любом деле крайности вредны. Главный недостаток централизованного планирования заключается в его предельной сложности и крайне высоким требованиям к качеству управления. Громоздкая система априори является инертной и негибкой, она не в состоянии оперативно реагировать на внезапные вызовы.
Точно так же, «рыночек» способен «порешать» только в строго определенных и достаточно узких пределах. Решение, оптимизированное с точки зрения прибыльности, сплошь и рядом оказывается неоптимальным с точки зрения иных критериев, прежде всего, социальных, а краткосрочные выигрыши часто оборачиваются стратегическими провалами.
Текущая модель российской экономики стремится взять лучшее у обеих начал. Прежде всего, структурная перестройка не может происходить без сильного государственного влияния и стратегического планирования. В течение всего прошлого года Минпромторг, другие Министерства и ведомства в тесной связке с бизнесом старались определить, что надо сделать в первую, вторую и дальнейшие очереди, чтобы закрыть пробитые санкциями прорехи, а также во что следует вкладывать деньги и прочие ресурсы. На эти вопросы в целом удалось найти ответы, а сейчас идет практическое решение поставленных задач.
Здесь без государственной поддержки не обойтись хотя бы по той простой причине, что у компаний, способных осуществлять стратегическое импортозамещение, часто нет денег на быстрое развитие. А заполнять сейчас надо множество ниш, в том числе, и принимая на себя бывшие активы западных компаний в России.
Процесс выделения средств зачастую жутко затянут, все длится месяцами, но процесс идет. В данном случае, государство выбрало, какие проекты считает приоритетными, и платит деньги за их реализацию. И экономить на этом нельзя. Впрочем, как отметил помощник президента Максим Орешкин, пока денежные средства на руках будут иметь достаточное товарное покрытие, разгул инфляции нам не грозит.
Более того, настоятельные призывы президента к борьбе с бедностью и повышению уровня доходов населения, в том числе, посредством роста оплаты труда, имеют прямое отношение к экономическому развитию страны. Поскольку благодаря импортозамещению российские компании все в большей степени покрывают потребности внутреннего рынка, увеличение доходов граждан — это для них прямое расширение спроса и собственных доходов.
Но вот конкретное выполнение задач по структурной перестройке экономики зависит, прежде всего, от предпринимательской инициативы и управленческих талантов. Адаптацию российской экономики к новым условиям выполнил, и выполнил успешно, в первую очередь, частный бизнес, на что и обратила внимание глава ЦБ. О необходимости расширения свободы предпринимательства заявил в своем выступлении на ПМЭФ и президент. Государство берет на себя разработку стратегии, но должно позволить бизнесу быть максимально гибким на тактическом уровне.
Современная приватизация, вокруг которой на форумах в интернете было сломано столько копий, тоже ничем не похожа на эпоху «большого хапка» в 90-х. Прежде всего, речь идет о том, чтобы вывести на биржу миноритарные пакеты успешных госкорпораций. Так, например, делала Саудовская Аравия с Aramco и собирается сделать Индия с крупнейшей в мире угольной компанией Coal India Ltd. Это не только позволить собрать немного доходов в бюджет, но и даст российским инвесторам альтернативу недоступным для них западных активам.
Кроме того, вполне могут и должны быть приватизированы предприятия западных компаний, оказавшиеся сейчас под контролем государства. Например, автозаводы, формальным собственником которых стал НАМИ.
Но не следует забывать и о том, что Россия по-прежнему живет в большом мире, где есть масса возможностей для честного и взаимовыгодного сотрудничества. «Российским компаниям необходим экспорт, без него их ждет прозябание», — заявил на ПМЭФ председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. И в этом он абсолютно прав, причем не только и не столько в отношении стальной продукции.
В мировых масштабах российский рынок все-таки маловат. Рост доходов и прибыли можно получить, прежде всего, на внешних рынках, куда необходимо выходить с готовыми изделиями. И не только штучными, наподобие авиалайнеров и атомных реакторов, но и с массовой продукцией. Технологический суверенитет и импортозамещение превращает Россию в мастерскую. Так пусть она станет мастерской для половины мира, создавая альтернативу китайской!
И в заключение — несколько слов о рынках стали. В России пока все стабильно. Металлургические компании намерены пролонгировать текущие цены на июль, рост намечается только в секторе проката с покрытиями. Видимый спрос — достаточно высокий, летний подъем налицо. В стройке наметилось сезонное оживление, так что арматура перестала дешеветь.
На мировом рынке главной тенденцией последних двух недель стало восстановление в Китае. Правда, по большей части, оно питается ожиданиями, что правительство КНР предпримет новые меры по ускорению экономического роста. Кое-что на этом направлении делается, так что на ближайшее будущее энтузиазма должно хватить. Однако китайские металлургические компании снова начали радостно наращивать производство, так что не исключено, что местный рынок вскоре опять столкнется с избытком предложения.
В Европе рынок стали продолжает искать дно словно пресловутый пятый угол. Пока оно не нащупывается, хотя местные специалисты уже месяц как обещают, что еще чуть-чуть, и вот-вот. Но стройка во многих странах региона упала, промышленность пока не вышла из спада, а природный газ опять взял и подорожал почти до $500 за 1 тыс. куб. м. А что там ждет впереди, скрыто в тумане.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»
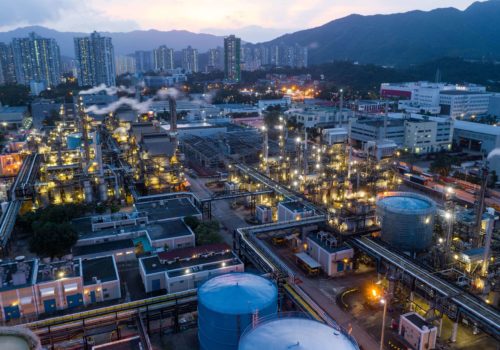
Прошедшая неделя была выставочной. «Металлоконструкции 2023» и «Металлургия. Литмаш. Трубы» собрали в московском Экспоцентре под 10 тыс… посетителей и более 1,5 тыс… участников на стендах около 300 компаний — производителей металлоконструкций, литья, оборудования, материалов, приборов и других изделий, проектировщиков, провайдеров специализированных услуг.
Впечатлений много. И главное, пожалуй, заключается в том, что российская экономика реально растет, а отечественный рынок становится привлекательным для национальных и зарубежных поставщиков оборудования.
Пожалуй, никогда ранее в июньских выставках не принимало участия столько компаний из Китая, Турции, Индии, Белоруссии, предлагающих свою продукцию в качестве замены европейской или японской. Впрочем, есть не единичные примеры европейских фирм, вопреки политическому давлению продолжающих работать в России.
Отечественные машиностроители, безусловно, ворчат на китайскую конкуренцию. Но почти все компании, принявшие участие в выставках, отмечают увеличение числа заказов. По словам представителя одного станкостроительного предприятия, в 2014-2015 гг. такого эффекта не было, а вот сейчас он видит, что импортозамещение стало для клиентов не пустым звуком.
Полным ходом идет освоение новых видов продукции, высоким спросом пользуется реверс-инжиниринг. Некоторые компании жалуются на то, что не хватает мощностей, чтобы удовлетворить всех потребителей. Хотя, конечно, остаются зияющие пробелы шириной в целые направления, где российских производителей пока нет совсем. Но китайцы всегда готовы подхватить и заменить, а параллельный импорт давно налажен и сбоев не дает, хотя обходится, понятное дело, дороговато.
В целом по состоянию на сегодня можно уверенно сказать, что российская экономика полностью оправилась от санкционного шока. Банк России, в очередной раз оставивший процентную ставку на прежнем уровне, сообщает, что экономическая активность растет быстрее ожидаемого, а внутренний спрос восстановился. ВВП в 2023 г. должен прибавить по сравнению с прошлым годом. По мнению Центробанка, экономику даже, возможно, вскоре придется защищать от перегрева путем повышения ставок.
Данный момент представляется весьма спорным. Тот же Банк России прогнозирует инфляцию в 2023 г. на уровне 4,5-6,5%, а повышение ключевой ставки, ведущее к увеличению расходов бизнеса, может стать достаточно серьезным проинфляционным фактором.
Еще одним проблемным направлением является валютный курс. В начале июня рубль опять ослабел. Пока эти колебания невелики и, скорее всего, станут временным явлением, но постоянное ожидание новых падений отечественной валюты, характерное для некоторых представителей бизнеса, оказывает давление на затраты и цены. Российский импорт восстанавливается после санкций быстрее, чем экспорт, но логистические издержки сильно выросли по сравнению с докризисными временами. Впрочем, эксперты валютного рынка считают наиболее вероятным долгосрочную стабилизацию в коридоре 75-83 рублей. за доллар.
Беспокойство некоторых представителей бизнеса вызывает и высокий бюджетный дефицит, превысивший 3,0 трлн. рублей. по итогам четырех месяцев. Однако это только федеральный бюджет, наполнение которого больше всего зависит от нефтегазовых доходов. Дефицит консолидированного бюджета существенно меньше — 1,73 трлн. рублей. Также необходимо учитывать и то, что доходы и расходы сильно варьируют по месяцам, причем, как показали данные с начала г. самые дефицитные месяцы попадают на начало квартала, затем происходит выравнивание.
Кроме того, возникает впечатление, что в российском правительстве внимательно изучили опыт советского «экономического чуда» 30-50-х гг. и кое-что взяли оттуда. По крайней мере, широкомасштабные государственные расходы на поддержку промышленности, инфраструктурные проекты и оборонку никак не влияют на уровень инфляции. Деньги в стране есть, и для этих целей их будет столько, сколько нужно. При этом вполне вероятно, что они вращаются в своем замкнутом контуре.
Если весной порой возникали сомнения в устойчивости российской экономики в ближайшие месяцы, то сейчас поставщики стальной продукции ожидают традиционного летнего повышения спроса. Причем его источниками станут не только машиностроение, но и стройка.
Да, проблемы в строительной отрасли есть. За пять месяцев 2023 г. количество проектов многоквартирных домов, получивших положительное заключение экспертизы проектной документации, упало в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого г. Причем это падение началось еще с декабря 2021 г., а с августа 2022 г. отставание от прошлогоднего графика составляет, с небольшими исключениями, 45-55%.
Тем не менее, по данным вице-премьера Марата Хуснуллина, количество реально начатых строек в жилищном секторе увеличивается и вообще динамика положительная. Кроме того, значительный спрос на стальную продукцию предъявляют инфраструктура, а также восстановление новых территорий. Возможно, по итогам всего текущего г. потребление проката в строительстве покажет рост по сравнению с 2022 г.
Исходя из этого, на ближайшие месяцы на российском рынке стальной продукции прогнозируется относительная ценовая стабильность. Возможны небольшие повышения по некоторым ходовым позициям и точечные дефициты, обусловленные, главным образом, ремонтами на металлургических предприятиях, ведущими к сокращению выпуска.
При этом ослабевает связь между российским рынком и мировым. Совсем она не разорвалась: так, удешевление арматуры в мае отчасти объяснялось понижением экспортных котировок российских компаний. Но отечественный рынок сейчас может практически игнорировать тот спад, который происходит за рубежом.
На прошедшей неделе несколько улучшилась обстановка в Китае. Котировки на арматуру и горячекатаный прокат на Шанхайской фьючерсной бирже выросли уже примерно на 250 юаней ($35) за т по сравнению с минимальными показателями третьей декады мая. Местные источники сообщают об оживлении спроса и сокращении складских запасов.
На этой волне приподнялись экспортные котировки на китайскую листовую продукцию, немного подорожала заготовка в странах Азии. Однако сами китайские специалисты настроены не слишком оптимистично. По их мнению, цены могут и дальше прибавить в краткосрочной перспективе, но рассчитывать на существенное улучшение до завершения дождливого сезона в сентябре-октябре не приходится. Объемы китайского экспорта стали, в мае достигнувшие наивысшего значения с сентября 2016 г., как ожидается, будут высокими и во втором полугодии. Поэтому давление на мировой рынок сохранится.
Немного приподнялся металлолом в Турции. Под влиянием этих новостей ожидается небольшой рост и на рынке Восточной Азии. Но в турецкой экономике ситуация тяжелая. За две недели, прошедшие после второго тура президентских выборов, курс местной валюты упал более чем на 17%. Для страны с хронически негативным торговым и платежным балансом это плохая тенденция. Турецкий рынок стальной продукции слегка оживился, но и там существенного роста, скорее всего, не произойдет.
Западные рынки продолжают пикировать. По данным Fastmarkets, за последний месяц базовые цены на горячекатаный прокат в Германии упали, в среднем, почти на 115 € за т, а в Италии — на 145 € за т. В США данная продукция обвалилась более чем на 25% или на $300 за т по сравнению с апрельским максимумом. По отзывам наблюдателей, спроса нет и пока не предвидится.
В ближайшее время в США ожидаются интересные события. После снятия потолка долга местное Казначейство начнет занимать деньги. Его потребности на вторую половину 2023 г. оцениваются в $1,5-2 трлн. По какой ставке ему будут одалживать, вопрос открытый. При этом американский Минфин будет активно пылесосить финансовый рынок, забирая оттуда деньги. А как известно, если в одном месте прибавится, то в другом должно убавиться. Одним словом, западные страны ждет очень разнообразное лето. Возможно, с последствиями.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

В философии есть понятие «дурная бесконечность», под которой понимается неограниченный процесс однообразных, однотипных изменений, ничем не разрешающихся и никак не заканчивающихся. Возникает впечатление, что в такую «ловушку сознания» угодил рынок стали.
За рубежом уже два с половиной месяца подряд, с середины марта, продолжается не быстрое, но неостановимое понижение. Причем, на большинстве рынков цены пока еще заметно выше, чем в предыдущей «яме» в конце октября — начале ноября прошлого года, так что, им еще есть, куда падать.
А в России, наоборот, практически с того же времени наблюдается стабильность. Цены стоят на одном месте. Нет волатильности, на которой в последнее время, в основном, и зарабатывают независимые металлотрейдеры и поставщики сварных труб.
Ситуация в целом понятна. На мировой рынок оказывают понижающее давление, с одной стороны, западные страны, а с другой, Китай. И там, и там экономическая обстановка неблагоприятная, из-за чего потребление потребительских и инвестиционных товаров сократилось. Соответственно, ухудшился спрос на стальную продукцию.
Изменения к лучшему в западных странах в ближайшем будущем маловероятны. По данным местных статистических органов, инфляция там снижается, но остается, как правило, неприемлемо высокой несмотря на прогрессирующее удешевление энергоносителей — нефти, угля и природного газа. Поэтому многие западные эксперты считают, что процесс повышения процентных ставок будет продолжаться. А это повышает риск финансового кризиса и вымывает средства из реального сектора экономики. Если деньги тратятся на погашение долгов и рефинансирование, то это значит, что они не тратятся на развитие.
Для Европы очень важную роль в ближайшие месяцы будет иметь погода. Если ей повезет, как повезло зимой, лето будет не жарким, в меру влажным и ветреным, экономика региона воспрянет духом. Будут дальше падать тарифы на электроэнергию благодаря нормальной работе ветряков и атомных станций. Продолжит дешеветь природный газ. Хороший урожай снизит остроту продовольственной проблемы.
Вероятность такого поворота событий достаточно велика. Причем основополагающее значение здесь будет иметь, как ни странно, характер морских течений на юго-востоке Тихого океана, у берегов Южной Америки. Три года подряд, с 2020 по 2022 г., там регистрировался так называемый погодный феномен «Ла Нинья». Именно он приносил дожди в Австралию и Индонезию, а засуху в Калифорнию. Европа менее от него зависима, но два последних лета в регионе были жаркими и засушливыми, а зимы — сравнительно теплыми.
В текущем году велика вероятность, что погодные процессы на Тихом океане будут идти совсем по-другому. Они принесут засуху в Австралию, но западная часть Северной Америки будет наслаждаться освежающими дождями. Вполне возможно, что и Европа в текущем году обойдется без погодных крайностей. Это, конечно, не повлияет на риски, вызванные антиинфляционной политикой и борьбой с глобальным потеплением, но повысит вероятность некоторого оживления региональной экономики ближе к осени.
В Китае об усилении негативных ожиданий свидетельствовали данные индексов PMI для металлургической отрасли и промышленности в целом по итогам мая. Эти индексы составляются посредством экспертных опросов менеджеров по закупкам и считаются важным индикатором состояния экономики.
Для всего промышленного сектора Китая значение данного индекса по итогам мая составило 48,8 пунктов, при том, что граница между ожидаемым ростом и спадом составляет 50 пунктов. Менеджеры по закупкам китайских компаний сообщали о снижении заказов со стороны национальных и зарубежных клиентов, а также прогнозировали сокращение производства. Кстати, в российской промышленности индекс PMI по итогам мая 2023 г. достиг 53,5 пунктов, причем рост этого показателя наблюдается с апреля прошлого года.
Отдельно в металлургической отрасли КНР индекс PMI упал до 35,2 пунктов, что представляет собой второй снизу уровень в истории. Причем чтобы упасть от более 50 пунктов в эту яму, ему хватило трех месяцев. Меньшее значение (33,0) было зарегистрировано только в июле 2022 г., когда рынок валился вниз после весеннего взлета, а в Китае снова расширялись масштабы ковидных локдаунов. Сейчас китайские металлурги отмечают падение заказов на всех направлениях и наконец, с большим опозданием, готовы уменьшать избыточную выплавку стали.
Надежды на восстановление китайского рынка стальной продукции тоже сдвигаются на осень, уже после завершения летнего дождливого сезона. Китайские промышленники, правда, по привычке надеются на поддержку со стороны государства, которое после такой негативной статистики уж точно должно вмешаться.
Однако китайские власти и так неоднократно вмешивались в экономику с начала текущего года, то подкидывая кредиты, то выпуская триллионными траншами облигации для финансирования инфраструктурных проектов, то снимая регулятивные барьеры. Но пока без большого эффекта.
Представляется, что проблема заключается в смене всей базовой экономической модели Китая. Ранее китайская экономика напоминала велосипед, который сохраняет устойчивость, пока быстро движется вперед. Основной ее движущей силой выступали кредиты, которые рефинансировались и отдавались за счет постоянного экстенсивного роста доходов.
Но этот мотор уже исчерпал ресурс. Население Китая перестало расти, в 2022 г. был зарегистрирован небольшой минус. Все, кто хотел и мог, уже переселились в города и обзавелись там какой-никакой недвижимостью. Транспортная сеть, в основном, построена. Завершается программа тотальной модернизации китайской промышленности с ее переводом на использование оборудования национального производства. Больше нет значимых возможностей для дальнейшего наращивания китайского товарного экспорта.
Сейчас китайцы строят, как не себя, электростанции — солнечные, ветряные и угольные. Но и это — лишь временная точка приложения усилий. Китайской экономике надо привыкать жить в условиях относительно постепенного, качественного развития. Конечно, такой переход идет сложно.
В частности, в металлургической промышленности возник большой избыток мощностей. Излишки произведенной стальной продукции сбрасываются за рубеж, а понижение курса юаня дает возможность предоставлять клиентам новые скидки. По-видимому, в июне эта политика продолжится.
После выборов в Турции вспыхнула надежда на оживление на этом направлении, но, похоже, она мнимая. Турецкая ассоциация производителей стали (TCUD) сообщила, что в апреле видимое потребление стали в стране превысило уровень аналогичного периода годичной давности на 16,2%, а по итогам четырех месяцев рост составил 7,9%. То есть, восстановительные работы после февральского землетрясения идут.
Отчасти, потребности в металле покрываются за счет импорта, в частности, из Китая и стран Юго-Восточной Азии, отчасти — за счет падения турецкого экспорта стали более чем в два раза по сравнению с прошлым годом при общем сокращении объемов выплавки на 21,3% по итогам четырех месяцев.
То есть, даже существенное расширение внутреннего спроса не помогло турецким металлургам компенсировать провал на внешних рынках. Это надо запомнить. Поскольку у российских компаний тоже есть проблемы с экспортными продажами. И тоже имеется несомненный рост потребления внутри страны.
Росстат начал отражать в своих данных эффект низкой базы. Год назад российская экономика как раз сполна почувствовала на себе удар санкций. Именно тогда произошел массовый исход в отечественного рынка западных компаний, а российские предприятия оказались отрезанными от импорта материалов и комплектующих.
Тем не менее, результаты вполне неплохие. Рост ВВП по сравнению с апрелем 2022 г. на 3,3%, промышленного производства — на 5,1%. Обрабатывающая промышленность показала прибавку на 7,8%, превысив уровень не только прошлого, но и позапрошлого года. В лидерах при этом ходят производство металлоизделий, кроме машин и оборудования (есть мнение, что к нему относится и оборонка), машиностроение, нефтеперерабатывающая отрасль.
В правительстве и деловых кругах обсуждают новые направления. В частности, на состоявшемся на прошлой неделе форуме «Цифровая индустрия промышленной России» речь зашла о переводе экономики на российское программное обеспечение и даже о создании собственного производства электронных компонентов.
Эта задача — на многие годы и вообще по своей грандиозности сравнивается с атомным или космическим проектами. Скептики заявляют, что пытаться пройти практически с нуля тот путь, который уже одолели западники и отчасти китайцы, будет жутко затратно, нерационально и вообще неосуществимо. Однако в таких вещах деньги вообще не имеют значения. Если Россия дерзнула посягнуть на сложившийся глобальный порядок и рассчитывает на лидирующее положение в новом мире, ей надо доказывать свои права на лидерство именно такими грандиозными «невозможными» делами.
Тем временем строители сообщают об увеличении количества новых строек многоквартирных жилых домов и росте объемов ипотечного кредитования. Таким образом, видимый спрос на стальную продукцию достаточно высокий и имеет тенденцию к увеличению. Может быть, каких-либо резких подъемов и пиков не будет, но и провалов совершенно не предвидится.
Это позволяет российским металлургам достаточно уверенно смотреть в будущее и игнорировать спад на мировом рынке. Пролонгация заводских цен на стальную продукцию, за исключением дешевеющей от избытка предложения арматуры, планируется не только на июнь, но и на июль.
Нарушить это равновесие, пожалуй, могут два фактора. В сторону повышения — летний подъем в российской экономике и строительной отрасли. Пожалуй, рассчитывать на него было бы слишком оптимистично. В сторону понижения — глубокий кризис в мировой экономике, сравнимый с 2008 г., когда цены на все виды ресурсов рушатся в пол. Вероятность не нулевая, но все-таки незначительная. По-видимому, и здесь надо будет смотреть, как российский рынок стальной продукции проведет лето и с чем встретит осень.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

На мировом и российском рынке стали прошла еще одна неделя в рамках прежних тенденций. В России продолжилось понижение цен на арматуру и металлолом при сохранении относительной стабильности листового проката. За рубежом падало практически все и везде, а роль «гирь» на чаше весов привычно брали на себя Китай и Евросоюз.
Президент на встрече в «Деловой России» предложил объявить пятилетие созидательного предпринимательского труда. Пафосно, конечно, но в реальности российский бизнес и так весьма успешно занимается полезной созидательной деятельностью, в первую очередь, в областях импортозамещения и освоения новых видов продукции.
На прошлой неделе Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) и Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) организовали совместное мероприятие, в рамках которого состоялась поездка на завод БелАЗ, один из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов и другой тяжелой транспортной техники.
Завод попал в 2022 г. под санкции, были разорваны связи с европейскими поставщиками комплектующих. Однако при этом он не простаивал ни дня. К настоящему времени задачи замещения импорта из недружественных стран решены на 90%. Причем речь зачастую идет о достаточно уникальных изделиях.
Германские двигатели для огромных самосвалов заменены на китайские и российские. Шины на огромные колеса, на некоторых моделях более чем вдвое превышающие человеческий рост, поставляет белорусское предприятие. «Раньше никогда бы не поверили, что можно чем-то заменить Siemens. Но заменили», — рассказывает с гордостью сотрудница завода. Есть еще отдельные незакрытые места, но по ним тоже идут контакты, в том числе, и с российскими производителями. Задача – изготовить то, что в России раньше никогда не выпускалось.
Вот что это, если не созидательный предпринимательский труд?! И это происходит отнюдь не только на БелАЗе. По оценкам Сбербанка, российская экономика прошла «дно» в ноябре прошлого года. Таким образом, она уже полгода растет, в частности, благодаря импортозамещению.
Хотя, само собой, проблем много. Рост пока неустойчивый. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2023 г. выплавка стали в России может превысить показатели предыдущего года на 4-5% и достигнуть 74-75 млн. т. Естественно, при сохранении положительной динамики первого квартала, когда объем производства достиг 18,7 млн. т, практически на уровне рекордного 2021 г. Но вот как раз в сохранение этой динамики не слишком верится.
Вопрос номер один – это стройка. Очень похоже на то, что результат 2022 г., когда было введено в строй 102,7 млн. кв. м жилья, достаточно надолго останется рекордным. Резкий рост прошлых лет, сопровождавшийся беспрецедентным скачком цен, привел к перегреву рынка. В апреле сдача жилья в эксплуатацию уже более чем на 14% отстала от прошлогодних показателей, причем наибольший спад продемонстрировал сектор индивидуального жилищного строительства, который в 2021-2022 гг. особенно был на подъеме. Более чем на 40% упало количество новых строек в жилом секторе.
Это частично компенсируется инфраструктурным строительством и новыми регионами. Но рынок арматуры недвусмысленно свидетельствует о том, что спрос на прокат строительного назначения сократился. Предложение избыточно, цены понизились. Вероятно, некоторым компаниям придется уменьшить объемы выпуска. Чтобы противостоять негативной тенденции, нужны системные решения. Не исключено, что в Минстрое начнут шевелиться во втором полугодии, когда станет очевидным отставание от прошлогоднего графика.
Вторая главная проблема российской металлургии – экспорт. Первый квартал был в этом отношении действительно вполне благополучным. Но к настоящему времени ситуация коренным образом изменилась. Спрос и цены на мировом рынке продолжают падение.
В Китае внутренний рынок проката опять просел. Котировки уже практически опустились на уровень минимальных отметок конца октября – начала ноября 2022 г. В стране начался дождливый сезон. Традиционного весеннего подъема в стройке не произошло. Рецессия в мировой экономике ставит под вопрос экспортные перспективы китайских промышленников, хотя внутренний спрос на потребительские товары вполне неплохой. Так или иначе, до осени рассчитывать на переход к устойчивому повышению весьма сложно.
Дело осложняется тем, что в Китае упали цены не только на готовую стальную продукцию, но и на сырье. Поэтому большинство металлургических компаний имеют минимальную прибыль или хотя бы не настолько убыточные, чтобы останавливать производственные линии. Нет, при такой динамике рано или поздно китайцам придется сбавить обороты и ужаться. Но пока что дешевый китайский прокат в изобилии поступает на внешние рынки, выдавливая с них прочих поставщиков.
Российские компании в принципе могут конкурировать с китайцами, но на них лежит дополнительный груз мероприятий по обходу санкций. А опускать котировки на горячекатаный прокат до $500-520 за т FOB на некоторых направлениях – это больно. Поэтому не исключено, что отечественным металлургам придется искать дополнительные возможности для сбыта внутри страны.
Да, есть надежда на оживление в Турции, но туда зашло очень много китайского проката. Впрочем, главное — это стройка, и вообще, ближайшая неделя покажет. Вроде бы, прошло гладко. Теперь, когда политические проблемы уходят в прошлое, на первый план должна выйти экономика.
Поставщики из Индии, Японии, стран Юго-Восточной Азии между тем продолжают обваливать европейский рынок. К процессу окончательно подключились и европейские металлурги, осознавшие, что в ближайшее время ничего им не светит. И не греет. В Италии средний уровень базовых котировок на горячекатаный прокат просел до менее 700 евро за т EXW. Корпорация ArcelorMittal, на которую обычно равняются остальные, заявила о понижении сразу на 100 евро за т. Но у нее раньше цены были сильно завышенные.
Вообще, западные страны должны сейчас облегченно передохнуть. В США таки договорились о повышении потолка государственного долга. Причем получилось все почти в духе Салтыкова-Щедрина. У него в одной сказочке от медведя кровопролитиев ждали, а он всего лишь чижика съел. Так и в США после такой мощной зарубы и предчувствия тотального побития горшков все ограничилось соглашением о заморозке государственных расходов, кроме военных (это святое), на 2024-2025 гг. Впрочем, результаты политического междусобойчика еще надо будет протащить через Конгресс.
Зато итоги долгового противостояния показали, что нынешняя американская администрация может хотя с кем-то и хотя бы о чем-то договариваться. Потому как раньше возникали большие сомнения в том, что там вообще знают такое понятие как «компромисс». А так – больной тяжел, но не безнадежен.
Впрочем, это не снимает с западных стран остальных проблем, среди которых лидируют экстремально высокие по местным меркам процентные ставки и такая же неприятно высокая инфляция. Вероятно, в борьбе с ними обойдется без экстримов, но процесс обещает быть весьма занимательным. И, увы, сулящим новые трудности мировому рынку стали.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»
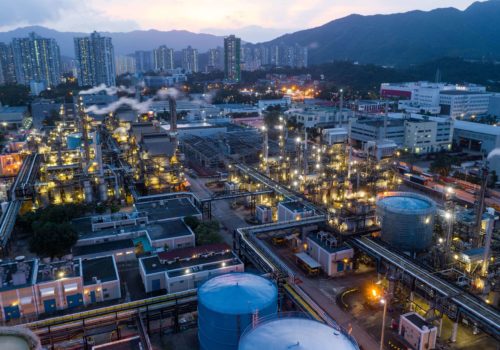
На мировом и российском рынке стальной продукции уже несколько недель подряд сохраняется относительная стабильность. Хотя в отношении прошедшей недели на первый план в этом сочетании выходит слово «относительная».
На самом деле изменения есть, правда, пока существенно не затрагивающие общие тенденции. Так, например, немного выросли цены на сортовой прокат в Турции, а металлолом и листовая продукция прекратили снижение. Это было обусловлено ростом деловой активности перед первым туром президентских выборов 14 мая. Правда, затем покупательский интерес снова пошел на спад, так что новых подвижек придется ждать, как минимум, до конца мая – начала июня.
Перестали падать и внутренние котировки на стальную продукцию в Китае. Кроме того, там подорожала железная руда. Однако настораживает то, что основной причиной данных изменений опять стали ожидания. Мол, статистические данные за апрель показали, что экономика слегка тормозит, значит, правительство запустит некие стимулы, чтобы ускорить ее рост.
Тут впору вспомнить, что слово «стимул» изначально означало в Древнем Риме палку или прут с заостренным концом, которым погоняли скот. Какое-то время этот метод, наверное, действует, но затем наступает момент, когда сколько не стимулируй осла или лошадь, быстрее они бежать не будут. Поэтому и с экономикой надо обращаться бережно. И как показывает опыт последних лет, китайские товарищи начали осторожнее подходить к вопросам стимулирования, не злоупотребляя данным инструментом.
К тому же, подорожание ЖРС в Китае случилось по той причине, что местные металлургические компании снова приступили к увеличению производства, рассчитывая на будущее расширение спроса. Таким образом, ключевая в этом году проблема – избыток предложения стальной продукции на китайском рынке – не решается никак.
В принципе, под влиянием китайской вспышки оптимизма в Азии слегка подорожала заготовка. Но говорить о появлении новой тенденции пока рано. Да и в других секторах китайская продукция продолжает поступать на внешние рынки по крайне низким ценам, и прекращения этой экспансии пока не предвидится. Подорожание, например, китайского листового проката видится маловероятным. А если местные металлурги опять начали увеличивать выпуск, то обстановка в перспективе может даже ухудшиться.
Европу по-прежнему заваливает дешевеющим на глазах азиатским прокатом. Предложения по горячекатаным рулонам индийского производства уже опустились до 600-620 евро за т CFR Италия с поставкой в августе-сентябре. Да и сами итальянские компании не исключают возможности удешевления своей продукции до менее 700 евро за т EXW за базу во втором полугодии. Специалисты опять заговорили о дальнейшем повышении процентных ставок в целях борьбы с непокорной инфляцией, и эта перспектива вызывает у представителей реального сектора экономики глубокое уныние.
Западная верхушка собралась в Хиросиме на очередную встречу в рамках G7. Фоном для этого междусобойчика послужила новая стратегия восстановления экономического лидерства США, озвученная советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Если коротко, заключается она в том, что Штаты хотят вернуться в благословенные для них времена второй половины 40-х гг. ХХ века, когда в них были сосредоточены половина всего золотого запаса мира и большая часть производственных мощностей в стратегических отраслях.
Чтобы добиться этого положения, нынешние американские власти готовы широко использовать государственные инвестиции в тех отраслях, где частный капитал не справляется с целями развития. Так, например, в рамках действующего с начала 2023 г. Закона о снижении инфляции предлагается потратить $450 млрд. государственных денег на щедрое субсидирование проектов климатической направленности.
Вообще, G7 в очередной раз заявила о намерении как можно скорее перейти на полностью «зеленую» энергетику, чтобы больше не зависеть от «грязной» нефти и «вонючего» газа, особенно, российского происхождения. Правда, тут возникает неожиданная проблема ресурсов. Западным странам категорически не хватает собственных редкоземельных металлов, лития, кобальта, никеля, меди и прочих видов стратегического сырья.
Чтобы решить эту проблему, США желают создать новую систему глобальной торговли, регулируемой не ВТО, а новыми американскими правилами, которые, в частности, предусматривают западный контроль над важнейшими технологиями и отрезание Китая от источников ресурсов,
Правда, тут возникает вопрос о том, как убедить страны Африки и Латинской Америки, на чьих территориях расположены важнейшие месторождения стратегических полезных ископаемых, осуществлять поставки именно в США. Традиционно для этих целей использовались такие методы как дешевая скупка местных элит, «оранжевые» революции для несговорчивых и экономические санкции против «недемократических» режимов. Однако сейчас американцы, осознавая, что привычная стратегия почему-то дает сбои, готовы раскошелиться на некоторые пряники.
В частности, речь идет о том, чтобы безвозмездно, то есть, даром профинансировать в развивающихся странах проекты внедрения альтернативной энергетики и прочие «климатически кошерные» решения. Что в перспективе создаст там зависимость от провайдеров ключевых технологий управления энергосетями с высокой долей нестабильных источников энергии с прерывистой генерацией.
В общем, будем наблюдать. И ждать ответных шагов от стран БРИКС на июньской встрече на уровне министров иностранных дел и августовском саммите. Потому как создание независимой от западных стран экономической и финансовой структуры тоже идет. Причем этот проект может оказаться более конкурентоспособным, чем система, основанная на американских правилах.
У нас между тем немалый резонанс вызвало недавнее заявление председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о необходимости национализации основных отраслей экономики страны в целях обеспечения экономической безопасности. Вообще-то, Следственный комитет экономическую политику в России не определяет никаким боком, так что до перехода этой инициативы на уровень правительства пролегает дистанция огромного размера. Но определенное напряжение его слова вызвали, не без того.
В принципе, в современной российской экономике и так велика доля государства. Правительство, в последние годы активно разрабатывающее различные программы, стратегии, методы поддержки промышленности и строительства, определенно начинает рассматривать Россию как государство-корпорацию, единый централизованно управляемый хозяйственный комплекс. То есть, речь по сути идет о том, чтобы реализовать с учетом анализа прежних ошибок, нового опыта и имеющихся инструментов (в частности, информационных) ту концепцию, которую не смогло даже осознать руководство Советского Союза.
Значительное место в экономике России занимают крупные госкорпорации, которые действительно занимаются стратегическими вопросами на важнейших направлениях. И хотя по поводу эффективности расходования ими средств порой возникают вопросы, нет особого сомнения в том, что львиная доля их прибыли тратится на их собственное развитие, включая реализацию долгосрочных проектов, зачастую не дающих моментальной финансовой отдачи, либо перечисляется в бюджет.
Однако в правительстве, как представляется, есть понимание и того, что закрыть все направления таким способом невозможно, да и нерационально. Даже в газовом секторе есть не только «Газпром», великий и ужасный, но и вполне себе частный «Новотэк». А в строительстве при всех нареканиях в его адрес пока не ставится задача создания государственного мега-девелопера.
Другое дело, что в рамках государства-корпорации частный бизнес при сохранении своего личного интереса должен, в первую очередь, следовать государственной политике и ориентироваться на разработанные правительством программы и стратегические планы. Но при этом очень важны понятые и, главное, соблюдаемые всеми правила игры, так как частный бизнес может оказаться источником как слабости, так и силы экономики.
На конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт», которая проходила в Волгограде 18-19 мая, среди прочих вопросов затрагивался очень важный момент: сложившаяся на сегодняшний день структура российского рынка, отдельные аспекты которой являются проблемными для его участников.
В целом текущая обстановка относительно стабильна, но опять, лишь относительно. При устойчивых заводских ценах на большинство видов стальной продукции на споте значительно подешевела арматура. Стоимость сварных труб выравнивается с котировками на рулоны, что лишает трубников возможности варьировать цены с опорой на менее дорогостоящие запасы прошлых месяцев.
Рентабельность металлотрейдерского бизнеса падает. По некоторым видам продукции (той же арматуре) дистрибьюторская маржа стабильно отрицательная. Ряд крупных поставщиков постоянно держат свои цены ниже рыночных, загоняя конкурентов в убытки. Причем у торговых компаний растут затраты на дефицитную рабочую силу, на логистику и на все остальное.
Из этого вытекают, по меньшей мере, две вещи. Первое – торговые дома металлургических компаний сегодня зачастую играют на рынке деструктивную роль. По той причине, что в отличие от независимых трейдеров, заточенных на получение прибыли от торговой деятельности, их главная задача – обеспечение сбыта продукции родительской корпорации с целью достижения оптимальной загрузки мощностей.
Причем эта проблема будет только обостряться. По данным агентства «Прайм», вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о том, что по своим производственным показателям металлургическая отрасль выходит на уровень прошлого года, а загрузка мощностей достигает 100%. Однако с учетом негативных тенденций на мировом рынке это означает, что больше стальной продукции должно быть потреблено в России. А существенного подъема в обозримом будущем не ожидается. Конкуренция между поставщиками еще больше усилится.
В западных странах металлургические компании не могут иметь подконтрольные металлотрейдерские структуры. За этим следят местные антимонопольные органы. А вот наша ФАС такими вещами почему-то не интересуется. Возможно, зря. У наших соседей крупные металлургические предприятия наподобие Белорусского метзавода и «Узметкомбината» продают свою продукцию через товарные биржи. Тоже достаточно интересный опыт, невостребованный в наших условиях.
Второй вывод, который следует из дискуссий на трубной конференции в Волгограде, заключается в том, что на вызов, который ставит перед металлоторговлей нынешний российский рынок, можно найти ответы. Так, практически все компании этого сектора уже не являются чистыми трейдерами. Они предлагают клиентам услуги по металлообработке, вплоть до производства комплектующих под заказ, или обеспечивают им оперативную поставку металлопродукции. Все это дает добавленную стоимость и дополнительный доход.
Второй урок заключается в том, что необходимо снижать себестоимость. Неожиданно российский рынок стали оказался в ситуации, сравнимой с началом 50-х гг., когда цены постоянно снижались, а производителям надо было как-то выкручиваться. Например, на Нижне-Волжском трубном заводе (НВТЗ) весьма успешно запускается система бережливого производства.
Деньги лежат везде. Просто чтобы их поднять, сегодня приходится прикладывать мозги и затрачивать немало труда.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

За первую половину мая на российском и мировом рынке стальной продукции не происходило существенных изменений. Тенденции действовали прежние. Цены где практически стояли на месте, где продолжали снижение.
Конечно, риск налета «черных лебедей» в наши беспокойные времена есть всегда, но нынешняя обстановка может достичь относительной стабильности на достаточно длительный период. Мы сейчас даже не стайеры, а супермарафонцы, одолевающие дистанцию в сотню километров, а то и поболее. Во временном же масштабе, возможно, придется закладываться на годы.
Вначале — немного о коротких дистанциях и факторах местного значения. Прошедшая неделя стартовала с небольшого всплеска в Китае. Там власти района Фэннань городского округа Таншань потребовали от местных меткомбинатов сократить производство стали и проката до уровня 2022 г. или менее.
Сообщение действительно было весьма важное. Избыток предложения стальной продукции в Китае является в текущем году самой серьезной проблемой для всего мирового рынка. Из-за него цены в КНР упали до минимальных отметок с ноября прошлого года, а местные металлургические компании начали сбрасывать прокат за рубеж по демпинговым ценам в стиле 2015-2016 гг.
По предварительным данным Национального бюро статистики КНР, за первые четыре месяца текущего года производство стали в стране достигло 359 млн. т, что на 5,9% или 20 млн. т больше, чем в тот же период годичной давности. В то же время, видимое потребление прибавило лишь порядка 6-7 млн. т. Скорейшее приведение китайского выпуска стальной продукции в соответствие со спросом — это важнейшая и очень насущная задача.
В 2022 г. в Фэннане было произведено 18,44 млн. т стали, т. е. около 1,8% от общенационального показателя. Так что заявление местных властей об ограничении производства могло бы стать важным почином. Но не стало. Аналогичных сообщений больше не поступало, так что цены на стальную продукцию в Китае возобновили понижение. А экспортные котировки и не прекращали.
В среднесрочной перспективе двух-трех месяцев можно предположить, что китайский рынок в конце концов придет в равновесие. Металлургические компании, многие из которых сейчас несут убытки, уменьшат объем выпуска, а осенью, может быть, несколько возрастет спрос. Но в ближайшем будущем поведение китайских компаний вряд ли существенно изменится. Поступление дешевой стальной продукции на внешние рынки будет продолжаться.
Российские компании в последние несколько недель тоже были вынуждены понижать котировки на экспорте. Турция, крупнейший покупатель отечественной стальной продукции, вступила в период турбулентности, какие бы результаты ни принесло голосование, прошедшее 14 мая. Цены на стальную продукцию и металлолом упали там до минимальных отметок с ноября-декабря 2022 г.
Спрос на российские полуфабрикаты и прокат практически отсутствует в Турции с первой половины апреля. Из-за этого российским компаниям пришлось переориентироваться на другие рынки. Так, например, отечественная заготовка в больших количествах отправляется в страны Восточной Азии, а горячекатаный прокат — в Индию. Но цены при этом стремительно падают. А укрепление рубля, случившееся в конце апреля и первой декаде мая, только ускорило обрушение экспортного паритета.
Если еще в апреле внешние котировки российских металлургов в пересчете на рубли превышали внутренние, но сейчас ситуация обратная. Более того, по горячекатаному прокату разница уже больше 10 тыс. руб. за т! Курс рубля — это, конечно, материя темная и предсказаниям не поддающаяся, но можно предположить, что в обозримом будущем внутренние цены на стальную продукцию в России останутся выше экспортных.
В то же время, как уже показывали многочисленные примеры, спад за рубежом отнюдь не означает понижения в России. Отечественный рынок выглядит более-менее сбалансированным. В секторе проката с покрытиями происходит небольшой рост, прочая стальная продукция относительно стабильная. Металлурги, пролонгировали апрельские цены на март и намерены поступить аналогичным образом в июне. Немного понизиться может только арматура.
Да, позиции на внешних рынках у них ухудшились. Да, дешевеет металлолом, уменьшая сырьевые затраты, в среднем, на 0,5 тыс. руб. за т в неделю. Но это компенсируется дороговизной логистики и увеличением прочих расходов. Кроме того, металлурги и дистрибьюторы рассчитывают на сезонный рост потребления во второй половине мая и в июне. Хоть плохонький, но рост.
По данным «Северстали», видимое потребление стальной продукции в России составило в первом квартале 11,15 млн. т, что на 3% меньше, чем в том же периоде прошлого года. На стройку пришлось 8,75 млн. т, что лишь на 1% меньше, чем годом ранее.
Жилищное строительство продолжает тормозиться. Как сообщает портал «Единый ресурс застройщиков», за первые четыре месяца 2023 г. положительное заключение экспертизы проектной документации получили 373 проекта многоквартирных жилых домов, что на 49% или почти в 2 раза меньше, чем в январе-апреле 2022 г. Но инфраструктурное строительство в немалой степени компенсирует эти провалы.
В экономике основные риски для российской экономики заключаются даже не в ужесточении санкций, а в сокращении нефтегазовых доходов. По данным Министерства финансов, дефицит бюджета в апреле превысил 1 трлн. руб., а по итогам четырех месяцев достиг 3,4 трлн. руб., что немного превышает годовой показатель.
Согласно расчетам экспертов, в секторах, не связанных с нефтегазом, правительство в итоге соберет запланированные доходы, но с нефтью будет сложнее. Цены на нее возобновили снижение и в последние дни составляли порядка $75 за баррель. Причины — отсутствие бурного роста в Китае и усиливающийся спад в экономике западных стран.
Дефицитный бюджет при этом не обязательно вызовет существенный рост инфляции. По крайней мере, Банк России прогнозирует 3,6% во втором квартале и постепенное увеличение до 4,5-6,5% к концу текущего года. В отечественной экономике хронически не хватает денежной массы, поэтому ее некоторое увеличение в связи с расширением государственных расходов — это больше в плюс, чем в минус. Товарами и услугами она будет точно покрыта.
В своем Ежеквартальном докладе о денежно-кредитной политике Банк России также сообщил, что в 2023 г. российская экономика будет проходить восстановительный рост, а в 2024 г. проявится эффект инвестиций в импортозамещающие проекты, стартовавшие еще в прошлом году. В целом промышленность страны постепенно наращивает обороты, хотя процесс это не быстрый, а дел там — на многие годы вперед.
В долгосрочной перспективе наши основные успехи и неудачи будет определять стратегия постепенной последовательной деглобализации — создания обособленных от враждебных западных стран экономических, финансовых, социально-культурных систем. Понятно, что снижение зависимости от западных рынков — процесс архисложный, но США и Европа сами рубят широкий и удобный сук, на котором они сидят, проводя безответственную денежную политику и открыто проповедуя двойные стандарты (своим можно все, для чужих — пресловутые «правила»).
Западные страны попали в ловушку. С одной стороны, им необходимо снижать высокую инфляцию, которая негативно воздействует на экономику, но, с другой, повышение процентных ставок, к которому они прибегают, — это такое лекарство, которое хуже болезни. Непривычно дорогие деньги создают там долгосрочные проблемы в банковском секторе, в промышленности, на рынке недвижимости. Другое дело, что кризис может долго зреть, прежде чем даст резкое обострение.
Поэтому пока что приходится ждать и наблюдать, отслеживать мелкие события и краткосрочные изменения. И помнить, что где-то в глубине постепенно идут медленные, но очень мощные процессы, словно магма копится в подземном резервуаре. Глядишь, и рванет… когда-нибудь.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Прошедшая неделя на мировом и российском рынке стали выдалась относительно спокойной. Каких-либо существенных изменений нигде не происходило. В России перестал дорожать металлолом, хотя серьезного снижения его стоимости не ожидается. За рубежом продолжали опускаться котировки в Китае и Турции. Надежды на восстановление там есть, но довольно смутные.
Состоялась конференция «Сортовой и фасонный прокат: тренды рынка 2023 г.», оказавшаяся интересной и насыщенной. Временной график оказался превышенным на два с половиной часа, но об этом, наверное, никто сильно не пожалел. Разговор там пошел интересный, с серьезным обменом мнениями об арматуре, производстве, строительной отрасли, металлоломе и многих других вещах, из которых состоит сегодняшний рынок.
Один из выводов, которые можно было сделать из этого обсуждения, заключается в том, что он находится в принципиально неравновесном состоянии. Словно акробат, балансирующий на самой верхушке сложной конструкции, которая, к тому же, не стоит на месте, а качается из стороны в сторону под воздействием многочисленных игроков, каждый из которых имеет свои интересы.
Любой аспект, например, продолжавшееся на протяжении всего первого квартала повышение цен на стальную продукцию в России, это словно громадный клубок, из которого торчат многочисленные ниточки. Потянешь за одну — вытянешь целый пучок проблем, переплетенных и связанных друг с другом.
Затраты металлургических компаний действительно растут. Одна из составляющих этого процесса — металлолом, который и сам по себе целый многоуровневый кластер. Правительство в полном согласии с производителями стали намерено и впредь ограничивать его экспорт. Но этому не слишком рады компании, которые ранее занимались внешними продажами лома — зачастую, более привлекательными, чем поставки российским заводам.
По данным НСРО «РУСЛОМ.КОМ», в 2022 г. ломосбор в России упал почти в полтора раза — от 30 млн. до немногим более 20 млн. т. Это спровоцировало его дефицит в начале текущего года и скачок цен. В последнее время поставки металлолома на российские метзаводы возросли, стоимость сырья прекратила повышаться, но проблема дефицита пока не решена. Вполне вероятно, что вскоре металлургические компании опять нарастят спрос, а за ним пойдут вверх цены.
Вообще, согласно оценкам РУСЛОМ.КОМ, лома, ежегодно образующегося в России, вполне достаточно, чтобы покрыть все потребности металлургов, и даже на экспорт останется. Но для этого надо повысить глубину сбора и переработки. Сейчас рынок находится накануне кардинального изменения правил игры. Его хотят «обелить», перевести к середине 2024 г. на безналичный расчет. По мнению специалистов, это поможет навести порядок на рынке. Но ближайшие годы он будет переживать непростой переходный период.
И металлолом — это только один аспект. Новая проблема, подстерегающая российский рынок стальной продукции, — это логистика, доля которой в затратах значительно возросла. Пропускная способность железных дорог выглядит сейчас до невыносимости малой. На дальневосточном направлении образовалась грандиозная пробка, через которую с трудом пропихиваются десятки миллионов тонн грузов. Свои трудности есть и на юге, где есть свои внезапные, приоритетные и весьма обширные перевозки. И ничего с этим сейчас не сделаешь.
У автоперевозчиков свои напасти с европейскими грузовиками, к которым сейчас непросто найти запачасти. Российская техника разбирается как горячие пирожки, но никакой КАМАЗ не может дать сегодня больше того, что он реально может дать. А есть еще Калининградская область, находящаяся в транспортной блокаде и висящая на ниточках морских путей.
Дальше — проблемы обслуживания импортного оборудования на метзаводах и в сервисных металлоцентрах, тарифы на электроэнергию и прочие обязательные платежи, объективно растущие расходы на оплату труда, ослабление рубля — выгодное экспортерам, но неприятное для тех, кому нужно что-то получать по импорту… Одним словом, работать сейчас интересно, но не просто.
На рынке усиливаются тенденции к консолидации. Укрупняются все — производители стальной продукции, металлоторговое звено, конечные потребители, в частности, в строительной отрасли. Металлургические компании стремятся повысить контроль над продажами своей продукции. Высокая конкуренция между поставщиками сбивает цены на арматуру на споте. Сегодня это низкомаржинальный, а зачастую и вовсе убыточный продукт.
Конечно, часть проблемы заключается в человеческом факторе. Есть торговые компании, которые ориентированы своими хозяевами не столько на прибыль, сколько на объем. Они вбивают котировки в пол на тендерах и отчаянно демпингуют в спотовых сделках. Есть покупатели металлолома, которые пылесосят рынок, взвинчивая закупочные цены. И это тоже неотъемлемая часть рыночного процесса.
Свои интересы имеет здесь и государство. В Минстрое, например, хотят стабильные цены на прокат на пять лет вперед, чтобы запланировать расходы на реализацию важнейших инфраструктурных проектов и больше не сталкиваться с кошмаром 2021 г., когда уже утвержденные сметы приходилось увеличивать на десятки процентов. В то же время, для металлотрейдеров с их минимальной маржинальностью подобная стабильность смерти подобна. Они зарабатывают, по большей части, на волатильности. Их мастерство как раз зависит от умения предвидеть будущие колебания цен и выбрать правильный момент для закупок или форсирования продаж.
В принципе, металлургические компании готовы работать со строителями по долгосрочным контрактам, используя, в частности, сбытовые сети своих торговых домов для организации физических поставок. Но для этого им нужна низкая, а главное, стабильная инфляция, чтобы, в свою очередь, иметь возможность планировать свои затраты.
Низкая инфляция, со своей стороны, это сбалансированность бюджета и относительно постоянный валютный курс. Ситуация с бюджетом после очень напряженного начала года, похоже, немного выправляется. Рубль за последнюю неделю обошелся без значительных скачков, но курс на уровне 80+ все-таки воспринимается как заниженный.
Специалисты на валютном рынке, правда, считают возможным укрепление рубля в ближайшие месяцы. Причиной мартовского спада они называют, в первую очередь, сокращение экспортных поступлений при наличии возросшего спроса на валюту. Уже другие эксперты заявляют, что ситуация в этом отношении будет улучшаться. После того как страны ОПЕК+ сообщили о сокращении объемов добычи нефти, котировки на нее постепенно растут. Ближе к лету не исключен подъем до $90-100 за баррель. Если не подведет Китай, но о нем речь еще пойдет впереди.
Следующий клубок проблем для российского рынка сортового проката — это спрос, прежде всего, со стороны строительной отрасли. То, что впереди — спад в жилищном секторе, ни у кого сомнений нет. Падение спроса на жилье, сужение объемов ипотечного кредитования в сегменте многоквартирных домов-новостроек, уменьшение количества новых проектов — это все есть и видно, как говорится, невооруженным взглядом.
Президент упомянул о затоваривании рынка и призвал поддержать спрос на жилье. Однако за какую ниточку надо потянуть в этом клубке? Многие эксперты, в том числе, в правительстве, заявляют, что причиной падения спроса стало опережающее повышение цен на жилье за последние годы. В свою очередь, девелоперы объясняют это подорожание значительным увеличением стоимости стройматериалов (особенно, во время «импорта инфляции» в 2021 г.) и искусственным раздуванием спроса за счет широкомасштабного применения льготной ипотеки.
Вообще, рынок сам способен регулировать такие вещи. Собственно говоря, это уже происходит. Спрос перетекает с первичного рынка жилья на вторичный, с приобретения квартир на ИЖС. Девелоперы начали предоставлять скидки, но, с другой стороны, одновременно начали сужать объем предложения, чтобы привести его в соответствие с сократившимся спросом.
Однако последнее решение — глубоко неправильное. Оно ведет только к падению масштабов строительства и дальнейшему снижению доступности жилья. Это полностью противоречит планам правительства, которое, наоборот, хочет увеличить обороты строительной отрасли. В этом стремление властей полностью совпадает с интересами металлургов.
Глава Министроя Ирек Файзуллин предложил застройщикам понизить цены на жилье. И это резонно, так как в последние годы девелоперы (именно и только девелоперы) нарастили свою прибыль в разы. И хотя ранее претензий к ним правительство вроде бы не имело (металлургические и металлотрейдерские компании завистливо вздыхают), это отношение может кардинально поменяться. По крайней мере, в Минпромторге уже задают вопросы по поводу сверхдоходов крупных строительных компаний.
Но здесь специфическая трудность заключается в действующем в настоящее время механизме финансирования строительных проектов через счета эксроу и банковские кредиты. Банкам категорически не выгодно, чтобы жилье, фактически служащее предметом залога, дешевело. А девелоперам не интересно понижать цены в новых проектах, иначе кто будет выкупать задорого построенные ранее квартиры?
Теоретически, это противоречие можно разрешить. Выходов здесь может быть несколько. Например, массовое строительство дешевого социального жилья с прямым госфинансированием для отдельных групп потребителей — ИТ специалистов, учителей, врачей, сотрудников оборонных предприятий и т. д. Но это пока маловероятно, так как требует специфических квалификаций у госструктур и не решает проблему в целом.
Возможно, будут расширены механизмы льготной ипотеки. Но тут надо параллельно вводить налог на сверхприбыль для девелоперов, поступления от которого можно целевым образом направлять на субсидирование покупок жилья. Можно, наоборот, отменить льготную ипотеку, но снизить процентные ставки для всех. Если инфляция долгосрочно стабилизируется на уровне 4%, это вполне реально.
В любом случае, что-то определенно будет сделано. Если, конечно, не произойдет чего-либо неприятного и непредвиденного за пределами наших границ.
Военно-политической сферы мы здесь касаться не будем. Достаточно экономики. Тут основные тенденции будут определять западные страны, с одной стороны, и Китай, с другой. Для рынка стали, безусловно, очень важна и Турция. Восстановительные работы там могут стать важным источником нового спроса на стальную продукцию, в том числе, и российского производства. В последнее время она падает в цене, в частности, из-за очень слабого спроса со стороны Турции.
Есть вероятность, что после Рамадана и до выборов, т. е. в конце апреля — начале мая там что-то сдвинется с места. Но препятствий для этого слишком много. Прежде всего, это может быть банальная нехватка денег, ведь восстановление целых провинций будет стоить очень дорого, а в Турции в этом плане не очень хорошо. Это страна с хронически дырявым бюджетом, высокой инфляцией и сильно дефицитным внешнеторговым балансом. Кроме того, правительству нужно время на подготовку тысяч проектов и наведение порядка в отрасли, чтобы новые дома изначально строились крепкими и сейсмостойкими.
В мировом масштабе более важную роль будет играть Китай. Темпы экономического роста и видимый спрос на стальную продукцию там оказались ниже ожидаемого. Кроме того, китайские металлургические компании выплавили в последние месяцы слишком много стали и произвели слишком много проката. Из-за этого, в частности, китайский экспорт стали в первом квартале 2023 г. превысил уровень годичной давности более чем в полтора раза, а цены на местную продукцию на внешних рынках падают.
Среди китайских металлургов ходят слухи о возможном принятии правительственных мер по ограничению выплавки стали. Если это будет сделано достаточно оперативно, местный рынок может придти в равновесие, а объемы китайского экспорта — сократиться. При этом прогнозы аналитиков для Китая по-прежнему выглядят достаточно оптимистичными. Во втором полугодии экономика страны может выйти на рабочий ритм, что, в частности будет способствовать повышению мировых цен на нефть.
Правда, для этого нужно, чтобы не произошло никаких потрясений в западных странах. Между тем, в их экономиках реально тонко и может порваться где-нибудь в любой момент. Высокие, по местным меркам, процентные ставки, неподавленные инфляционные процессы и безудержная эмиссия — весьма взрывоопасное сочетание. Прокалывать эти пузыри сейчас, правда, не выгодно никому, пока мировая экономика остается сильно завязанной на доллар, а альтернативы сверхъемким западным рынкам нет, но… процесс идет.
В общем, рынок сейчас находится в приблизительном равновесии, в том числе, благодаря заложенным в него механизмам саморегулирования. Но сколько там всяких тонких ниточек, способных порваться в самый неподходящий момент! Будем поэтому тщательно следить за обстановкой.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Первая неделя апреля прошла под знаком паники на валютном рынке. Курс рубля едва не провалился до 85 руб. за доллар, а закончил неделю на отметке 81,1 руб. В то же время, экономическая обстановка осталась прежней. Никаких резких изменений, оправдывающих такое падение, не произошло.
Впрочем, объективно говоря, слабый рубль сейчас нужен и полезен многим. В первую очередь, самой серьезной проблемой для государственных финансов остаются низкие базовые цены на нефть.
В марте их для налоговых целей посчитали по котировкам Argus, дающих крайне низкие оценки – менее $50 за баррель. С апреля будет использоваться формула «брент минус», однако тоже с очень значительным дисконтом. В текущем месяце он будет составлять до $34 за баррель (при нынешних ценах это даст чуть больше $50 за баррель), а к июлю сузится до $25.
Бюджет на 2023 г. между тем подсчитан по $70,1 за баррель, так что в ближайшие месяцы в государственных доходах будет недобор. И компенсировать его так или иначе придется за счет слабого рубля.
Есть и другие факторы, которые оказывали негативное влияние на валютный курс. Так, при сокращении российского экспорта импорт в последние месяцы был довольно устойчивым, что создавало повышенный спрос на валюту. Некоторым зарубежным компаниям было позволено забрать свои деньги из России, но при этом им приходилось выкупать доллары и евро за рубли, опять-таки задорого.
Наконец, слабая валюта выгодна экспортерам, в частности, металлургам, которые как раз столкнулись со снижением внешних котировок. Да и более дорогостоящий импорт создает дополнительные стимулы для его замещения.
В то же время, слишком сильно опускать национальную валюту нерационально. Хотя бы потому, что такое падение вызывает панические настроения. В последнюю неделю, например, вновь пробудились «аналитики», предрекавшие падение рубля до 100 за доллар еще до конца апреля, хотя подобный сценарий представлялся крайне маловероятным.
Такой бы обвал привел к резкому усилению инфляционных настроений и потребовал бы срочного повышения процентных ставок, что российской экономике нужно сейчас в последнюю очередь. Кроме того, нестабильная валюта – очень сильный аргумент против хотя бы частичного перевода внешней торговли за рубли. Приходится, увы, смиряться с волатильностью рубля, который постоянно болтается и вихляется вверх-вниз, но ниже определенного предела ему упасть не дадут. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем он снова начнет укрепляться.
Вообще, многие участники рынка ведут себя по принципу: «Сами придумали, сами испугались». Так, еще несколько дней назад некоторые «прогностики» предсказывали на первый квартал дефицит бюджета в 4 трлн. руб. и со сладким ужасом расписывали, какой жуткий скачок инфляции это вызовет. Другие призывали не верить Росстату, но почему-то приводили в подтверждение своих опасений примеры из практики западных рейтинговых агентств и британской статистики. Третьи уверены в том, что в самое ближайшее время Россию действительно полностью отрежут от внешней торговли с помощью западных вторичных санкций.
Кстати, именно эти опасения имеют право на жизнь, хотя и не в таком всемирном масштабе. Очень важной датой для России станут президентские и парламентские выборы в Турции, которые состоятся 14 мая. Оппозиция там открыто проамериканская, и в случае ее победы последствия могут быть очень неприятными. В том числе, естественно, и для самой Турции, но когда такие вещи волновали западных марионеток?! Основная проблема здесь заключается в том, что большинство рядовых избирателей не интересуются внешней политикой и не понимают связанных с ней рисков, а голосуют исходя из сугубо внутренних предпочтений.
Впрочем, месяц в нынешних условиях – это большой срок, так что подождем середины мая. Пока что текущая ситуация в российской экономике остается приемлемой. Обрабатывающая промышленность понемногу наращивает обороты. По данным Минфина, доходы государства в марте продолжили рост, а расходы сократились, так что по итогам месяца был достигнут небольшой профицит. Квартал закончили с минусом в 2,4 трлн. руб., но положительная динамика есть.
Дальнейшее развитие событий с государственными финансами будет, безусловно, во многом зависеть от нефтяных котировок. После того как страны ОПЕК+ приняли решение о новом сокращении добычи, они подскочили почти до $85 за баррель. Для того чтобы российский бюджет начал выполнять план по доходам, нужно добавить еще $10 к июлю.
Причем шансы на это есть. Некоторые эксперты, представляющие международные банки и инвестиционные компании, как раз прогнозируют подорожание нефти до $100 за баррель во второй половине текущего года. Правда, для этого необходимо выполнение трех условий. Это соблюдение ограничений на добычу нефти, экономический рост в Китае и отсутствие кризиса в западных странах. Два последних фактора также будут определять обстановку на мировом рынке стали.
Сейчас там положение неустойчивое. В Турции так пока и не начались восстановительные работы, поэтому спрос на стальную продукцию остается ограниченным. Из-за этого снижаются цены на стальную продукцию и металлолом, а также продолжают падать экспортные котировки на российскую стальную продукцию. Нет, рано или поздно турецкий рынок пойдет на подъем. Возможно, это произойдет еще до выборов. Но в данный момент он представляет собой источник слабости.
Новый спад на рынке стали произошел в начале апреля в Китае. Биржевые котировки на арматуру в Шанхае впервые с начала текущего года опустились до менее 4000 юаней ($582) за т. Китайские металлургические компании снова удешевили свою продукцию при поставках на экспорт. Предложения по коммерческому горячекатаному прокату для вьетнамских клиентов упали до менее $620 за т CFR.
Представляется, что это падение было вызвано неблагоприятным сочетанием кратко- и более долгосрочных факторов. В частности, начало апреля выдалось очень дождливым, что привело к снижению активности на стройках чуть ли не по всем приморским провинциям. Многие боятся репрессий против «спекулянтов» со стороны Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) и заранее сбавляют цены. Наконец, вопреки ожиданиям в Китае не спешит восстанавливаться спрос на стальную продукцию, из-за чего местный рынок находится в состоянии избытка предложения.
Кроме того, в Китае опасаются обострения внешнеполитической обстановке вокруг Тайваня, а также тревожатся о состоянии США и Евросоюза, которые являются крупнейшими покупателями китайских товаров. Так, например, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предупредила об уязвимости мировой экономической системы из-за попыток мировых центробанков бороться с инфляцией посредством повышения ставок. Причем, возвращаться к мягкой денежной политике тоже опасно, так как инфляция в западных странах реально высокая по местным меркам.
Впрочем, на фоне спада в Турции, Китае, Вьетнаме, странах Персидского залива рынки стальной продукции в западных странах демонстрируют рост. В США местные компании выставляют предложения по горячекатаному прокату на уровне более $1300 за т EXW. Европейские металлурги рассчитывают все-таки довести базовые котировки на эту продукцию до 900 евро за т EXW. Основной причиной подъема в обоих случаях является локальный дефицит, который может продлиться до лета, когда в эти регионы должны будут поступить крупные партии импортной продукции.
В результате мировой рынок листового проката разделился на два уровня. Компании, имеющие возможность поставлять свою продукцию в США и ЕС, ориентируются на одни цены, а те, для кого эти рынки закрыты, — совсем на другие, гораздо меньшие. К последним относятся и российские поставщики. Для них возможности для повышения завязаны, прежде всего, на обстановку в Китае и Турции.
Отечественный рынок между тем, похоже, близок к стабилизации. Правительство, по данным «Коммерсанта», признало повышение цен на прокат в первом квартале рыночным и не собирается применять к металлургам какие-либо ограничительные меры. Но и производители стальной продукции пока не усматривают причин для нового подорожания в мае. По их мнению, поднимется цена только на прокат с покрытиями, который в последние месяцы отставал от других видов стальной продукции.
Главное, что металлурги надеются на скорую стабилизацию на российском рынке металлолома. Объемы его предложения действительно растут. Правда, существенного удешевления этого сырья не ожидается. Как отмечалось на форуме «Лом черных и цветных металлов», организованном Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ», 74% металлолома, собираемого в России, относятся к средне- и труднодоступному с себестоимостью от 19,5 тыс. до 22 тыс. руб. за т. На эти показатели и придется ориентироваться потребителям.
В общем, проблемы есть всегда, но они решаемые. Надо только не поддаваться страху перед будущим. Поскольку страх, как известно, убивает не только рынок, но и разум.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Пришла весна — цены повышаются. Нельзя сказать, что для российского рынка стальной продукции это какое-то обязательное правило. Но, если брать последнее десятилетие, то чаще было именно так, чем иначе. В конце концов, весна — это, ко всему прочему, начало сезонного оживления в строительной отрасли.
Однако, как говорится, повышения бывают разные! Вот состоявшийся в первом квартале текущего года рост цен на прокат вызвал возмущение у ряда потребителей, обращения в ФАС и жалобы в правительство.
Как, в частности, заявляет Минстрой, с начала года арматура подорожала более чем на 26%, хотя, правда, во второй половине марта этот подъем приостановился. Заводские цены на горячекатаный прокат превышают январские примерно на 17%, а в прайс-листах дистрибьюторов в Москве рост составил, в среднем, почти 30%.
Важность этой проблемы заключается в том, что вместе со стальной продукцией поднимаются в цене и другие стройматериалы, прежде всего, цемент. Себестоимость строительных работ опять идет вверх. С одной стороны, это приведет к дальнейшему подорожанию жилья в новостройках, спрос на которое и так заметно упал из-за дороговизны. Вон, объем ипотечного кредитования в январе-феврале сократился на 30% по сравнению с прошедшим годом.
С другой, много строительных проектов у нас реализует государство. И в правительстве очень недовольны перспективой снова, как и в 2021 г., пересматривать сметы в сторону повышения. Это же никаких денег не напасешься! К тому же, сейчас и так в бюджете избыток расходов.
Вопрос, что с этим делать? По данным «Коммерсанта», ФАС предложила меткомбинатам снизить рентабельность производства горячекатаного проката на уровень 2019 г., т. е. вернуть цены на отметки четырехлетней давности с учетом изменения затрат на железорудное сырье и концентрат коксующегося угля.
Вообще, предложить в качестве точки отсчета 2019 г. — не самая лучшая идея, с точки зрения металлургов. Да, в том году цены на стальную продукцию в России были относительно стабильными. Заводские котировки на арматуру А500С размером 12 мм варьировали в течение года от 33 тыс. до 41 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС, а на горячекатаный прокат ст3 толщиной 4 мм — от 39-40 тыс. до менее 46 тыс. руб. за т. Но все три ведущие металлургические компании страны по итогам 2019 г. отчитались по МФСО о снижении чистой прибыли на 14-40% по сравнению с уровнем годичной давности. Так что, для них год был не самым удачным.
Впрочем, если считать не только цены, но и затраты, то получится, что заявления меткомбинатов об опережающем росте расходов вполне оправданы. Текущие заводские цены на арматуру с одной стороны и закупочные цены на металлолом, с другой, поднялись приблизительно на одну и ту же величину по сравнению с началом апреля 2019 г. — в среднем, на 40%. Это не так уж и намного превышает индекс инфляции нарастающим итогом за четыре года (27%).
Между тем, стоимость горячекатаного проката с 2019 г. увеличилась в рублях примерно на 45%, тогда как мировые цены на ЖРС (в тех же рублях) — на две трети, а коксующегося угля — более чем на 50%. Кроме того, как отмечают металлургические компании, им в 2021-2022 гг. подняли НДПИ на железную руду и ввели акциз на сталь, а также повысили железнодорожные тарифы.
И как бы возвращение на уровень рентабельности 2019 г. не привело бы не к снижению, а к повышению цен на металлопродукцию сейчас! Особенно, если учесть, что металлургические группы несут более высокую социальную нагрузку, чем четыре года тому назад.
Нынешние заводские цены на арматуру и горячекатаный прокат поэтому выглядят вполне оправданными. Объективно, для их понижения нужно, в первую очередь, удешевление металлолома и ЖРС. Однако это сложно. В рынок лома уже пытались вмешиваться. Вводили экспортные пошлины и квоты. В итоге (хотя не обязательно поэтому) получили падение ломосбора, дефицит сырья и взлет цен. Возможно, решение проблемы лежит, наоборот, в облегчении жизни ломосборщикам.
Кроме того, расширению поступлений вторсырья на российский рынок должны способствовать повышение инвестиционной активности, рост промышленного производства и оживление потребительского рынка. Ведь большая часть металлолома, поступающего на заводы, это отходы металлообработки, последствия демонтажа (старого оборудования, металлоконструкций и др.), а также отслужившая свой срок техника, от стиральных машин до автомобилей. Чем быстрее обновляется металлофонд, тем больше металла поступает на сталелитейные предприятия.
В отношении ЖРС и коксующегося угля вопрос заключается в том, насколько российский рынок связан с мировым. Если для внутрироссийских (и даже внутрикорпоративных) поставок используются международные индексы, тут ничего не поделаешь. Хотя вследствие прекращения экспорта в Европу российские рынки сырья оказались в значительной мере отрезанными от зарубежных.
В принципе, решить вопрос с ценами на стальную продукцию для государственных инфраструктурных проектов не так сложно. По итогам марта инфляция в России упала до 4,3%. Если удастся удержать ее на этом уровне достаточно долго, то есть хорошие шансы на то, что и среднегодовые цены будут расти примерно в том же темпе. А это уже можно брать за основу для формульного ценообразования.
При этом на протяжении года рынок может быть весьма волатильным. Повышение в первом квартале может смениться стабилизацией во втором. Особенно, если в апреле цены на металлолом в России действительно выйдут на пик благодаря увеличению объемов предложения, а затем начнут с него сползать. Прекращению подъема, который так беспокоит правительство и ФАС, может также поспособствовать нормализация производственного процесса на меткомбинатах.
Понятно, что российский рынок стали не может существовать в отрыве от мирового. Там сейчас наблюдаются следующие тенденции. В Турции пока тихо, ожидаемого роста потребления не произошло, широкомасштабные восстановительные работы после февральского землетрясения еще не начались, котировки на стальную продукцию снижаются. Возможно, мешает Рамадан, который будет продолжаться до 22 апреля. Кроме того, чуть больше месяца осталось до президентских выборов 14 мая, которые многое решат. Впрочем, рано или поздно в Турции должен произойти подъем.
В Китае полторы недели спада (четко с 16 марта) сменились неделей осторожного повышения. Как отмечают местные источники, общие ожидания благоприятные. Экономика должна расти, строительный сектор — восстанавливаться после прошлогоднего провала, спрос на инвестиционные и потребительские товары — расширяться. В то же время, хорошо заметно, что власти пытаются сдержать рост цен на стальную продукцию, хотя бы посредством словесных интервенций. Вероятно, экспортные котировки на китайский прокат будут подниматься, но умеренно.
Западные страны все еще балансируют на грани спада. С банками вроде бы все порешали, но негативные тенденции накапливаются. И звенят звоночки. Первые закупки китайской компанией CNOOC партии сжиженного природного газа (LNG) за юани, заявления Китая и Бразилии о переходе во взаимной торговле на местные валюты вместо доллара, стремление стран АСЕАН тоже исключить доллар, евро и иену из межгосударственных расчетов — это кучно пошло. Новая Концепция внешней политики России — все в той же тенденции.
Похоже, приближается момент, когда все эти постепенные изменения накопят некую критическую массу и перейдут в новое качество. И тогда кому-то придется точно умерить аппетиты. Но для мировой экономики и рынка стали в частности это может означать серьезный шок и кризис.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

По прогнозам метеорологов, март нас ожидает холодный. Однако на российском рынке стальной продукции весна уже началась. И какая жаркая, однако! За последние две недели цены на арматуру, горяче- и холоднокатаный прокат у металлотрейдеров в Москве выросли на 3-5 тыс. руб. за т и достигли наивысших отметок с конца мая — начала июня 2022 г.
Здесь в первую очередь важно то, что подъем пока что затрагивает, в первую очередь, самих дистрибьюторов. Они столкнулись с дефицитом стальной продукции из-за относительно низкого объема запасов на складах и ограниченного объема предложения со стороны производителей.
Металлургические компании в ближайшее время, похоже, не смогут удовлетворить все заказы от металлоторговли. В прошлом году выпуск стали и проката в России в целом уменьшился, возвращения к прежним объемам пока не предвидится. На некоторых предприятиях запланированы ремонты.
Кроме того, повысился спрос на продукцию метзаводов. В первую очередь, расширяются объемы поставок по прямым контрактам с конечными потребителями. Есть у нас отрасли промышленности, которые сейчас переживают небывалый подъем. Во вторую, несмотря на санкции постепенно приоткрывается экспорт. Особенно, для неподсанкционных компаний.
Внешние заказы поступают, а цены за рубежом растут по причине благоприятной конъюнктуры. В Турции ждут скорого начала восстановительных работ, которые потребуют прорву металла. Хотя местное правительство призывает металлургов к сдержанной ценовой политике, там дорожает все — металлолом, товарная заготовка, сортовой прокат, лист.
Дорожает стальная продукция и в Китае. Местный бизнес в целом оптимистично оценивает экономические перспективы. По данным Национального бюро статистики КНР (NBS), индекс Purchasing Managers’ Index (PMI) для китайской промышленности по итогам февраля увеличился на 2,5 п.п. до 52,6 пунктов, что представляет собой максимальное значение с апреля 2012 г.
На этих выходных в Китае стартовали «Две сессии» — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК). Как ожидается, на них будут приняты новые благоприятные для экономики решения.
Китайское издание «Shanghai Metals Market» (SMM) в целом довольно сдержанно оценивает национальный рынок стали и предупреждает, что видимое потребление в текущем году будет сильно отставать от рекордных показателей 2021 г. По его оценкам, это создает риск постоянного избытка предложения. Тем не менее, и оно предсказывает на март-апрель рост цен на прокат. В частности, по причине дороговизны железной руды, металлолома и коксующегося угля. В конце февраля — начале марта о подъеме отпускных цен сообщили ряд компаний из Китая, Вьетнама и Тайваня.
Западные страны тоже почувствовали себя лучше благодаря понижению цен на энергоносители. Европейские металлурги постепенно «выжимают» из своих клиентов повышение котировок. Горячекатаный прокат во втором квартале будет стоить дороже 800 евро за т EXW за базу, а на июль прогнозируются 850 евро за т.
Еще хлеще развивается ситуация в США, где в течение февраля горячекатаный прокат подорожал более чем на 25%, а некоторые производители в три приема подняли свои котировки и вовсе на 40%. Причины этого стремительного роста заключаются во внезапном дефиците на фоне сезонного увеличения спроса. Сразу несколько заводов по различным причинам будут проводить ремонты в марте-мае. Кроме того, введенные в строй в прошлом году предприятия компаний Nucor и Steel Dynamics испытывают проблемы с выходом на проектную мощность.
Таким образом, мировой рынок в ближайшее время будет находиться в растущем состоянии. А для некоторых российских металлургических компаний экспортный паритет по-прежнему остается путеводной звездой и светом в окошке, особенно, когда цены за рубежом растут. В настоящее время внешние котировки превышают внутренние на 4-6 тыс. руб. за т. И конечно же, многие участники российского рынка ожидают, что металлурги будут приводить российские цены в соответствие с экспортными.
При этом нельзя сказать, что рост на отечественном рынке целиком заемный из-за рубежа. Для него есть и более объективные причины. Это, в частности, имеющийся в настоящее время спрос, который будет увеличиваться по мере прихода весны в наши края. А также сохраняющаяся неуверенность в будущем и проинфляционные ожидания.
Правда, министр финансов Антон Силуанов заявил, что доходы бюджета за январь-февраль 2023 г. превысили уровень аналогичного периода прошлого года и достигли 5 трлн. руб. Но есть и увеличение расходов. Также беспокоящим фактором является ужесточение конфронтации с западными странами. Введение 10-го пакета санкций в ЕС и 200%-ной пошлины на российский алюминий в США, стремление усилить контроль за соблюдением действующих ограничений — все это свидетельствует о том, что противостояние будет усиливаться.
Тем не менее, нет оснований считать, что российская экономика, выдержавшая год в условиях санкций, вдруг даст слабину. Судя по всему, в ближайшее время будет закрыта неожиданная прореха с ценовыми индикаторами на рынке нефти. Трудно сказать, будут ли новые расчетные цифры, которые заменят не соответствующие действительности оценки от Argus, реально объективными, но бюджету достаточный объем нефтегазовых доходов они обеспечат. Особенно, если вследствие оживления китайской экономики снова поднимутся цены на нефть и сжиженный природный газ (LNG) на мировом рынке.
Конечно, всегда потенциально взрывоопасным является валютный фактор. Рубль ведет себя волатильно и совершенно непредсказуемо. Правда, в последнее время он достиг относительной стабилизации в интервале 74-76 руб. за доллар. Еще в конце прошлого года первый вице-премьер Андрей Белоусов называл в качестве оптимального интервал 70-80 руб. за доллар, так что будем считать, что цель достигнута. Во всяком случае, есть надежда на то, в обозримом будущем курс снизит свое влияние на стоимость стальной продукции и перестанет раскручивать инфляционные процессы.
Вообще, возникает впечатление, что несмотря на все трудности, вызванные военными действиями, санкциями и их героическим преодолением, в России набирает ход не привычная инфляция издержек, однозначно вредная для экономики, а инфляция спроса. Повышенные расходы государственного бюджета, рост оплаты труда вследствие дефицита квалифицированных специалистов и просто рабочих рук, обильные социальные выплаты создают приток средств, вливающихся в российскую экономику. В ней всегда существовали зоны роста, выделяющиеся на общем фоне, но сейчас они становятся шире.
Да, часть этих средств утекает за рубеж или оседает в валютных сокровищах. Но, что бы ни говорил один крупный и уважаемый предприниматель, деньги в стране есть и будут. Просто они действительно концентрируются на приоритетных направлениях. Что, правда, создает проблемы для тех бизнесов, которые не связаны ни с оборонной промышленностью, ни с импортозамещением, ни со стратегическими отраслями.
По этой причине многие дистрибьюторы достаточно осторожно оценивают перспективы спотового рынка стальной продукции на ближайшие месяцы. Малый и средний бизнес живет весьма трудно. Обстановка в строительном секторе остается противоречивой. Впрочем, на ближайшие месяцы накопленной инерции роста должно хватить, а инфраструктурные проекты помогут.
Весенний рост на арматуру и листовой прокат поэтому, скорее всего, состоится. При этом потолок цен в немалой степени будет зависеть от экспортного паритета. Как представляется, подъема, сравнимого с 2021 г., на мировом рынке не произойдет. Не та экономическая ситуация. Относительно высокие процентные ставки будут сдерживать рост в западных странах. Оживление в Китае подтолкнет вверх цены на энергоносители. К тому же, в металлургической отрасли много резервных мощностей. В Европе они уже начали возвращаться в строй. Увеличение объемов предложения тоже будет оказывать сдерживающее влияние на цены.
Трудно сказать, что будет происходить в ближайшее время на рынке России, которую, как известно, умом не понять. Но при сохранении нынешних тенденций и при относительной стабильности курса рубля экспортный паритет для заготовки вряд ли превысит 60 тыс. руб. за т с НДС, а для горячекатаного проката — 75 тыс. руб. за т. Вероятно, что и российские металлурги не шагнут за эти границы, иначе могут последовать организационные выводы, как последовали в том самом 2021 г.
Но все-таки, это пока — не завтрашние проблемы. Пока что — рынок растет, а впереди — самый весенний праздник 8 Марта!
Приглашаем всех принять участие в деловых мероприятиях, запланированных на 2023 г. В Москве 16-17 марта в 18-й раз пройдет международная конференция «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления». Вопросы рынка спецсталей будут обсуждаться на конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок», которая состоится 6-7 апреля в Екатеринбурге. А 13-14 апреля в Москве оценивать перспективы нового строительного сезона будут участники конференции «Сортовой и фасонный прокат: тренды рынка 2023 г.».
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Главные события — праздники, годовщины, выступления, речи и заявления — будут на этой неделе. А в середине февраля на первый план временно вышли совсем приземленные вопросы. Для участников рынка стали, пожалуй, наиболее важный из них — куда пойдут в ближайшее время цены на стальную продукцию в России и в мире?
Интерес этот отнюдь не праздный. С начала февраля стоимость арматуры и горячекатаного проката на споте увеличилась, в среднем, на 2,5-3 тыс. руб. за т. Металлургические компании планируют новое повышение в марте, которое может оказаться еще более значительным. Некоторые эксперты ожидают, что в начале календарной весны арматура в России может превысить отметку 50 тыс. руб. за т.
Безусловно, это подорожание происходит не на пустом месте. Спрос на металл определенно есть несмотря на не самое благоприятное для этого время года. Прежде всего, металлургические компании отмечают увеличение объема заказов по прямым поставкам конечным потребителям. Однако и дистрибьюторы активно приобретают стальную продукцию, опасаясь, что через неделю она станет дороже. Многие стремятся сейчас закупиться относительно недорогим прокатом в расчете на будущее повышение.
Вообще, подобные подъемы с ажиотажным спросом на старте всегда заканчиваются одинаково. В один прекрасный момент покупатели, создав достаточные запасы, уходят с рынка, отказываясь принимать очередное подорожание. Пройдя через пик, цены валятся вниз по причине перманентно слабого спроса. Но тут, как говорится, есть нюанс. После такого «качания маятника» итоговые котировки могут оказаться существенно выше, чем в начале процесса.
Причины здесь могут быть две: или это ускорение инфляции, когда дорожает все, или влияние мощного подъема на зарубежных рынках. А сейчас может возникнуть впечатление, что вокруг нас происходит и то, и другое.
Курс рубля, который в январе и начале февраля держался на относительно стабильном уровне, идет вниз. Причем валютные аналитики считают это ослабление естественным и не видят особых причин для реванша. Январские данные Мифина о бюджетном дефиците в 1,76 трлн. по итогам первого же месяца 2023 г. продолжают довлеть над рынком. Повышенные расходы на госзакупки и снижение налоговых доходов могут быть однократным явлением — февральская статистика покажет. Но вот падение поступлений от экспорта нефти и газа показывает наличие реальной проблемы.
Вполне вероятно, что на самом деле российская нефть стоит дороже, чем впаривают Platts и Argus. К марту Минфин обещает суверенный ценовой индикатор, тогда проверим. Но энергоносители реально дешевеют.
Нефтяные котировки на западных биржах к концу прошедшей недели упали под влиянием очередных информационных вбросов, хотя фундаментальные факторы — сужение российской нефтедобычи и ожидаемый рост потребления в Китае, скорее, способствуют росту. Но в странах Северного полушария температура, по большей части, превышает сезонную норму, ветер исправно крутит турбины ветроэлектростанций. Это снижает спрос на природный газ, поэтому спотовые котировки на СПГ упали до минимального уровня почти за полтора года.
Если в ближайшее время не произойдет каких-либо серьезных перемен, российский бюджет будет получать меньше денег. Тогда как расходы предстоят большие. Война — дело дорогое, а ведь в правительстве одновременно не снимают с повестки дня вопросы развития страны.
По словам министра финансов Антона Силуанова, в 2023 г. приоритетом в расходной части бюджета станет обеспечение технологической независимости. Приоритетные отрасли, к которым относятся электроника, авиастроение, машиностроение, получат широкомасштабную государственную поддержку на импортозамещение и создание ресурсной базы. Только на реализацию госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в этом году направят 1,2 трлн. руб. Почти на 275 млрд. руб. заключены контракты на поставку в лизинг отечественных самолетов и вертолетов российским авиакомпаниям.
А ведь нельзя забывать еще и об инфраструктурном строительстве. Расширение пропускной способности транспортной сети на дальневосточном направлении является самой первоочередной задачей. «Газпром», на прошлой неделе отметивший 30-летие, тоже в самые сжатые сроки должен выполнить массу работ, чтобы заместить потерянные экспортные маршруты на европейском направлении. Плюс модернизация ЖКХ, плюс строительство новых дорог, плюс восстановление новых территорий… Для всего этого нужны даже не три, а целых пять вещей: кадры, ресурсы, деньги, деньги и деньги.
Да, как заявил Антон Силуанов, «все запланированные на 2023 год расходные обязательства бюджета РФ будут выполнены, ресурсов для этого достаточно». Вполне вероятно, что так оно и будет. Но когда в экономику вбрасывается огромная масса денег, инфляция становится неизбежной. Особенно, если при этом будет слабеть валютный курс. И пока что нынешняя тенденция действительно ведет цены на стальную продукцию в России устойчиво вверх по номиналу.
Мировой рынок в первой половине февраля сделал паузу. Во многих регионах стоимость стальной продукции немного уменьшилась. Но в дальнейшем рост может возобновиться. По крайней мере, на это прямо намекают текущие процессы в Китае, Евросоюзе и Турции.
Китай долго запрягал, но на третью неделю после завершения новогодних праздников, кажется, собрался ехать. Во всяком случае, на местных биржах пошли вверх котировки на стальную продукцию, ЖРС и коксующийся уголь, а компании Baosteel и Ansteel сообщили о повышении мартовских котировок на листовой прокат. Не очень намного, всего, в основном, на 200 юаней ($29) за т, но важен символ. Примеру китайских коллег уже последовали тайваньские и вьетнамские металлурги.
Оживление китайской экономики после отмены антиковидных ограничений в начале января все-таки происходит, хотя и не слишком быстро. По данным за январь, увеличились объемы кредитования реального сектора, возобновились ранее остановленные стройки, повысился спрос на недвижимость. О новых мерах стимулирования экономики может быть объявлено на сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая состоится в начале марта.
Правда, уж очень резкого подъема цен в Азии может и не произойти. В последние несколько недель индийские, японские, вьетнамские и прочие поставщики ориентировались, в первую очередь, на премиальный рынок Евросоюза. Но окно там закрывается. Азиатские компании закрыли портфели заказов на весну и предлагают свою продукцию с поставкой в июне-июле, а это мало кому интересно. Поэтому им придется обращать больше внимания на рынки Ближнего и Дальнего Востока, что усилит там конкуренцию.
Европейские производители с начала февраля пытаются поднять базовые котировки на горячекатаный прокат до более 800 евро за т EXW. Пока это им не слишком удается, в частности, вследствие возвращения в строй ранее остановленных мощностей. Но удешевление природного газа и электроэнергии будет поддерживать европейскую экономику. Может быть, существенного ценового роста там в ближайшем будущем не произойдет, но и спад маловероятен.
В Турции еще разбирают завалы, но правительство и металлурги готовятся к будущим восстановительным работам. Национальная ассоциация производителей стали TCUD оценивает дополнительные потребности в арматуре примерно в 4 млн. т. При этом правительство обратилось к металлургам с просьбой не задирать цены на нее хотя бы в долларовом исчислении. Трудно сказать, удастся ли им выполнить это пожелание. Горячекатаный прокат в Турции уже начал дорожать, а дальше могут пойти вверх приобретаемые по импорту заготовка и металлолом.
В то же время, в 2022 г. в Турции было произведено более 14 млн. т арматуры, из которых 5,7 млн. т ушли на экспорт. Так что, «лишние» 4 млн. т внутреннего спроса — это не проблема для местных металлургов. Но импорт турецкой арматуры, крупнейшими покупателями которой выступали в прошлом году Израиль, Йемен и страны Северной Америки, может изрядно сократиться.
Понятно, что любые прогнозы сейчас справедливы до первых больших перемен в общей обстановке. Но чтобы изменить ситуацию, сложившуюся на данный момент на мировом и российском рынке стали, понадобятся весьма радикальные изменения.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Прошедшую неделю омрачила трагедия в Турции и Сирии. Количество погибших достигло почти 40 тысяч в двух странах. Разрушены тысячи зданий, повреждены дороги, развязки, линии электропередачи, порты.
Однако при этом на фотографиях видно, что зона разрушений, как правило, не сплошная. На одних и тех же снимках есть здания, превратившиеся в груды развалин, обрушившиеся лишь частично или вообще уцелевшие. Это поднимает вопрос о качестве строительства, оказавшемся очень разным. Скорее всего, без потерь, к сожалению, не обошлось бы ни в каком случае — уж очень сильным был подземный удар. Но скрупулезное выполнение норм по сейсмостойкости зданий и сооружений, наверное, позволило бы уменьшить число жертв.
Это очередное напоминание о том, что на безопасности нельзя экономить. А также о том, что в условиях реальной экономики на ней и на других нужных, не неочевидных вещах будут экономить всегда. Потому что более высокие затраты на те же сейсмостойкие здания на металлическом каркасе надо нести сейчас, а понадобится эта защита только в отдаленном будущем, если понадобится вообще. Это только в Японии, которую трясет часто и сильно, в любой проект закладывают повышенную прочность, и то от ударов стихии это не всегда помогает.
В течение всей недели, прошедшей после катастрофы, экономика Турции находилась в состоянии шока. Прервались экспортные поставки стальной продукции, прекратились закупки металлолома на внешних рынках. Остановились все металлургические предприятия, трубные заводы и сервисные металлоцентры, оказавшиеся в зоне поражения. Техника и люди переброшены на разборку завалов, приостановлены поставки газа и электроэнергии, разрушены дороги и порты.
По данным индийского ресурса SteelMint, на юго-востоке Турции, где сейчас действует режим чрезвычайного положения, сосредоточено около 30% национальных мощностей по выплавке стали в электропечах, что соответствует около 11,7 млн. т в год. Повреждения получил Искендерун — один из крупнейших портов в стране. Возможно, простой металлургических заводов продлится два-три месяца.
К этому времени должны начаться восстановительные работы, что приведет к росту потребления стальной продукции и, не исключено, к временному превращению Турции в нетто-импортера проката. При этом резко сократится турецкий экспорт стали. Возможно, параллельно уменьшатся закупки горячекатаного проката, заготовки и металлолома.
Российская экономика на прошлой неделе перенесла свое потрясение, пусть и прошедшее исключительно в информационной сфере. Речь идет о сообщении Минфина о резком увеличении бюджетного дефицита по итогам января. Доходы за месяц упали на 35,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как расходы возросли на 58,7%. Это привело к возникновению беспрецедентного дефицита в размере 1,76 трлн. руб., при том, что по итогам всего 2023 г. этот показатель должен был составить 2,925 трлн. руб.
Паника от этого вышла немалая. Некоторые комментаторы опасались, что январская ситуация повторится и в следующие месяцы. Из-за этого ожидалось катастрофическое превышение расходов над доходами, каковое так или иначе придется покрывать с помощью печатного станка. Это, в свою очередь, должно привести к резкому повышению инфляции и обвалу курса рубля.
Не исключено, что эти соображения стали одной из причин реального ослабления рубля до более 73 за доллар. Впрочем, участники валютного рынка у нас по жизни нервные, это уже не раз проявлялось.
Однако делать какие-либо далеко идущие выводы по одному отдельно взятому месяцу еще рано. Тем более, что Минфин дал на этот счет свои пояснения. Увеличение расходов бюджета было вызвано оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Объем госзакупок в январе превысил показатель первого месяца 2022 г. более чем на 1 трлн. руб. Запланированные деньги сразу пошли в экономику, а не стали ждать завершения бюджетного периода. Это больше похоже на однократный скачок затрат, чем на систему.
Снижение доходов было отчасти обусловлено изменением порядка начисления налогов и возврата НДС, хотя, безусловно, в число причин спада вошли такие факторы как уменьшение экономической активности и предоставление льгот в рамках политики импортозамещения. Здесь надо будет проследить за данными за февраль и следующие месяцы.
Наиболее тревожный показатель — это падение нефтегазовых доходов от 795 млрд. руб. в январе 2022 г. до 426 млрд. руб. в январе 2023-го. Оно отражает сокращение российского экспорта природного газа и удешевление российской нефти. Однако последнее обусловлено не только влиянием санкций и неблагоприятными рыночными тенденциями, но и невниманием самого Минфина к мелочам.
Только после публикации резонансного отчета в Министерстве озаботились тем, что референтные цены на российскую нефть, к которым привязываются и отчисления в бюджет, до сих пор выводятся на основании данных британского агентства Argus. Хотя они сейчас определяются на основании буквально единичных сделок, о которых становится известно британцам, и выдают огромные дисконты на российский сорт Urals по отношению к базовому «бренту» — более 40%.
Так ли это в действительности, большой вопрос. Во всяком случае, президент поручил правительству к 1 марта уточнить методику расчета цен на нефть и нефтепродукты для налогообложения с целью «минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета». В общем, замещать надо импорт не только товаров, но и услуг, в том числе, информационных и аналитических. Хорошо, что это, наконец (наконец!) начинают понимать.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что в марте Россия сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в день или немногим менее 5%, отказываясь поставлять ее «под потолок». Это, в принципе, ожидаемый шаг. О возможном снижении нефтедобычи на 5-7% в 2023 г. Новак говорил еще в конце прошлого года. Не исключено, что этот спад будет временным, так как «альтернативный» механизм российского нефтяного экспорта реально работает. Однако самой большой проблемой оказалась еще одна «мелочь» — логистика.
В российских деловых кругах все шире раскручивается скандал из-за недостаточной пропускной способности железных дорог и портов в восточном направлении. Нефтяники, угольщики, металлурги — все дружно жалуются на то, что их экспортные грузы, предназначенные для покупателей в Азии, застревают в огромной пробке. В свое время в РЖД «сдвинули вправо» сроки реализации проектов по расширению Восточного полигона, а сейчас от этого страдает вся экономика страны.
По данным «Коммерсанта», ассоциация «Русская сталь» будет апеллировать к правительству, требуя создать условия для экспорта 8-9 млн. т стальной продукции в этом году. Но оперативно «родить» дополнительные рельсы, разъезды, локомотивы, краны, причалы и все прочее, включая, не в последнюю очередь, строителей, могут, разве что, лишь могучие маги, а их в нашем отчестве, увы, не густо. НИИЧАВО явно недорабатывает…
В общем, обстановка достаточно непростая. Поэтому нервничает и российский рынок стали. В начале февраля на споте произошел рекордный более чем за год скачок котировок в прайс-листах металлотрейдеров на горячекатаный прокат и определенные типоразмеры сварных труб. Сами цены подскочили до максимальных отметок с июня прошлого года.
Этот подъем отражает, прежде всего, анонсированный на март рост котировок на первичном рынке. Металлурги увеличивают стоимость листовой продукции на 2-3 тыс. руб. за т в дополнение к февральскому подорожанию. Арматура, очевидно, тоже прибавит, хотя, скорее всего, в меньшей степени. Более существенного повышения в марте, правда, не предвидится. Сами производители заявляют о высоком спросе на свою продукцию на российском рынке и увеличении затрат — в первую очередь, на металлолом.
В то же время ослабевает действие другого фактора, который наверняка влиял на цены в России в январе, — конъюнктура на внешнем рынке. В Китае ожидаемого повышения после Нового года по китайскому календарю не произошло. Позади уже две недели, а вышла за это время только относительная стабилизация после снижения. Очевидно, восстановление экономики, а особенно, строительного сектора — вещь не быстрая, а китайские компании в ожидании весеннего подъема накопили слишком большие запасы. Сейчас китайцы усиленно сгружают все это богатство за рубеж по весьма конкурентоспособным ценам.
В принципе, в последние дни прошедшей недели из Китая приходили более оптимистичные сообщения, например, о расширении объемов кредитования реального сектора. Поэтому не исключено, что в середине февраля китайский рынок стальной продукции все-таки сдвинется вверх. Но основной рост придется тогда на страны Азии. Европейские же компании, похоже, уперлись в ценовой потолок из-за недостаточного спроса и роста объемов предложения местной и импортной продукции.
Прежняя предсказуемость мирового рынка стали, обусловившая стабильность цен в конце прошлого года, отошла в прошлое. Обстановка снова неясная. В экономике нет мелочей, и любая может внезапно оказаться важной.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Военно-политическая обстановка продолжает накаляться, поэтому все более важным становится противостояние экономическое как относительно ненасильственная альтернатива полноценным боевым действиям.
Здесь тоже есть свои фронты, маневры, главные оперативные направления, решительные наступления и стратегическая оборона. Сейчас, например, на первом плане находится нефть. Западные страны пытаются накрыть российский экспорт ценовыми потолками. Кроме того, вступил в силу европейский запрет на импорт нефтепродуктов из России.
На этом направлении Россия защищает, в первую очередь, объемы поставок. В конце прошлого года вице-премьер Александр Новак допускал снижение нефтедобычи в 2023 г. на 5-7% по сравнению с прошлым годом вследствие санкций. Но пока спада нет. По итогам 2022 г. был зафиксирован даже незначительный рост.
Как вынуждены признавать даже в западных странах, существенно воспрепятствовать российскому экспорту нефти они не смогли. За последний год Россия обзавелась собственным танкерным флотом, создала систему страхования морских перевозок и заместила другие подсанкционные услуги. Но, самое главное, отлажена и работает система поставок, находящаяся вне поля зрения западных наблюдателей. Благодаря этому российская нефть может спокойно поставляться по всему миру, в том числе, западным покупателям.
Правда, тут возникает вопрос: а зачем это нужно? Во имя чего российские компании теряют изрядную долю доходов в виде скидок и платы посредникам, если можно было бы сократить добычу нефти на 10-15% за счет уменьшения экспорта в недружественные страны и тем самым спровоцировать подъем цен? Так, например, «Газпром» резко уменьшил экспорт в Европу (хотя и не по своей воле), но из-за взлета цен в 2022 г. оказался в прибыли.
Однако на самом деле количество в нефтегазовой сфере не менее важно, чем качество. Заглушить нефтяную скважину сложно и недешево, а еще дороже — вернуть ее в строй. При этом современная нефтедобыча — это весьма высокотехнологичная отрасль, создающая спрос на массу металлопродукции и прочих изделий с высокой добавленной стоимостью. Одних только труб она потребляет более 3 млн. т в год. Снизить добычу нефти — значит, лишить заметной части доходов производителей труб, насосов, прочего оборудования, провайдеров специализированного нефтесервиса и т. д.
Вступают в силу ответные меры России на потолок цен на нефть
Кроме того, есть и другие нюансы. Оборона — это худший способ защиты, а пассивное отступление с потерями и жертвами — худший способ обороны. Это то же самое, что «резать косты» в период кризиса. Потери так можно минимизировать, но при этом лишиться перспектив на будущее, когда придет время для роста.
Другая проблема заключается в том, что даже существенный спад производства и экспорта российской нефти может не вызвать ее сильного подорожания. Биржевой рынок нефти подвержен стороннему воздействию, в этом уже неоднократно можно было убедиться. На протяжении последних лет цены на нее искусственно сдерживаются.
Впрочем, резкий рост нефтяных котировок нанес бы ущерб не только западным потребителям, но и дружественным и нейтральным странам. Китай, например, крупнейший в мире импортер нефти, Индия входит в первую пятерку, Турция практически не имеет собственных нефтяных месторождений. Сейчас не та ситуация, чтобы настраивать против себя партнеров ради денег, которые представляют собой ни в коем случае не самоцель, а инструмент.
Наконец, не зря цены на нефть базового сорта «брент» за последние два с половиной месяца варьируют в относительно невысоком интервале — $77-87 за баррель, тогда как с марта по август они и за сотню свободно выходили. Дело в том, что нефть несмотря на все манипуляции с котировками — один из важнейших макроэкономических индикаторов. Относительно невысокие цены показывают, что не все в экономике ладно, прежде всего, с потреблением.
Неожиданно. На протяжении всего января западные СМИ радостно заявляли, что рекордно теплая зима, да еще с ветерком, обнулила вероятность энергетического и экономического кризиса в Европе. Сформировались благоприятные ожидания, на основании которых базовые цены на горячекатаный прокат в Евросоюзе с конца декабря выросли на 80-90 евро за т, спровоцировав повышение и в других регионах мира.
А вот в начале февраля вдруг выяснилось, что с экономикой у западников по-прежнему совсем не все хорошо. Американская ФРС, Европейский центральный банк, Банк Англии дружно подняли процентные ставки, указав, что инфляция, хотя и снизилась, все еще остается высокой, а стало быть, борьбу с ней надо продолжать.
Однако удорожание кредитов — весьма неприятная вещь для экономики. Особенно, для строительной отрасли, которая находится в депрессии что в США, что в большинстве стран Евросоюза. В конце января понизились котировки на сортовой прокат в ЕС, причем по причине совершенно недостаточного спроса.
Возникли сомнения по поводу перспектив дальнейшего роста в европейском секторе листового проката. В начале года потребители пополнили запасы, но реальное потребление сильно не увеличилось. Между тем, на трех европейских меткомбинатах возвращаются в строй четыре доменные печи. Ожидается, что восстанавливаться будут и другие мощности, остановленные в конце прошлого года. А это уже прямая дорога от дефицита к избытку предложения.
Даже в Китае, как оказалось, проблем более чем достаточно. Вопреки ожиданиям, в первую неделю после новогодних праздников по местному календарю цены там не росли, а падали. Похоже, здесь сказались сразу несколько негативных факторов. Прежде всего, внутренний спрос несмотря на отмену ковидных ограничений и обещанные правительством меры поддержки восстанавливаться не спешит. Из-за экономических проблем в западных странах ниже ожидаемого оказывается обеспеченность китайских предприятий экспортными заказами. Наконец, китайские компании в ожидании будущего роста перестарались и накопили за праздники слишком большие запасы стальной продукции.
Скорее всего, Китай все-таки покажет ускорение экономического роста в ближайшие месяцы, потому как не понятно, что же может ему помешать в долгосрочном плане. Но рынок стальной продукции точно немного подбили на взлете. Возвращения к ценам конца прошлого года, скорее всего, не произойдет, но и значительного роста тоже, вероятно, не получится.
Возможно, энергоносители в ближайшие месяцы отойдут на задний план, но в западной экономике останутся и другие риски — рост процентных ставок, высокая задолженность, сужение спроса. Финансовая политика там становится все более безоглядной и безответственной, что только усилит желание многих незападных стран перейти на использование альтернативных валют и платежных механизмов.
Понято, что спина у западной финансовой системы крепкая. Но процесс нагрузки ее все новыми и новыми соломинками идет полным ходом и, кстати, не первый год. Между прочим, все кризисы происходят внезапно, а часто даже, казалось бы, «ни с того, ни с сего».
В этой связи весьма актуальным является вопрос о крепости наших собственных спин. В принципе, пока что причин для сильной обеспокоенности нет. По предварительным оценкам МВФ, в 2022 г. российский ВВП несмотря на санкции и их реальное воздействие сократился всего на 2,2%, а на текущий год прогнозируется небольшой рост на 0,3%.
Полностью отрезать экономику России от критического импорта не удалось. Западный бизнес на словах подчинился политикам, но, по большей части, полностью отношения не стал разрывать. Хотя этот риск по-прежнему остается самым опасным. Уж очень много в российской экономике дыр, дырочек и провалов, которые в сжатые сроки не закрыть никаким импортозамещением.
В бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России, опубликованном в конце января, наибольшими уязвимостями российской экономики назвали дефицит кадров, технологические ограничения и слабость внешнего спроса.
Первое очень тесно связано со вторым. В нынешних условиях человеческий ресурс — самый важный ресурс, и дефицит его может обернуться самыми большими проблемами. Достижение технологического суверенитета зависит, прежде всего, от наличия компетенций — научных, производственных, организационных.
Центробанк, правда, видит еще одну проблему, заявляя, что нехватка специалистов может вызвать избыточное по отношению к росту производительности труда увеличение зарплат, что, в свою очередь, приведет к нежелательному ускорению инфляционных процессов.
Ну что здесь можно сказать?! Кажется, Центробанк постоянно озабочен тем, чтобы в карманах основной массы российских граждан не завелись лишние денежки. По крайней мере, заявления о нежелательности роста оплаты труда регулярно делаются им, как минимум, с 2014 г., если не раньше. Однако такая точка зрения представляется крайне ошибочной.
Российский рынок листового проката и сварных труб: 11-18 января
Прежде всего, если увеличение зарплат является инфляционным фактором, то отнюдь не самым важным. Это верно, пожалуй, только для экономики бедной сырьевой страны, которая торгует массовым товаром (commodity) с минимальной добавленной стоимостью, да еще импортирует большую часть потребительских товаров. Тогда, да, рост затрат на оплату труда заметно увеличивает себестоимость у экспортеров ресурсов и уменьшает их прибыли, а дополнительные доходы работников оборачиваются расширением импорта, пожирающего дефицитную валюту. Но Россия ведь ушла от этой экономической модели, верно?
В конкретных наших условиях в число инфляционных факторов можно включить ослабление курса рубля, ежегодное повышение цен и тарифов «естественных» монополий, высокую степень монополизации и искусственное ограничение конкуренции во многих отраслях, в первую очередь, в торговле, что вносит сильные искажения в механизмы ценообразования. Российская инфляция — это инфляция издержек, жадности локальных монополистов и «привилегированных» поставщиков, а отнюдь не спроса. В 2021 г. Россия, к тому же, получила большую дозу инфляции по импорту, и это сказывается до сих пор.
Кстати, период самого большого процветания в США (50-60-е годы ХХ века) как раз отличался тем, что зарплаты росли там быстрее производительности труда. Повышение доходов населения стимулировало развитие внутреннего потребительского рынка, производства (тогда еще не вынесенного в Китай) и сферы услуг. А для бизнеса опережающий рост затрат на оплату труда в условиях более-менее свободной конкуренции стал мощным стимулом для технического прогресса и внедрения автоматизации.
На российском рынке стальной продукции между тем несколько ускорились инфляционные процессы. Металлургические компании повысили заводские цены на февраль на 0,5-2,5 тыс. руб. за т по большей части сортамента листового и сортового проката. Примерно такое же подорожание ожидается в марте. Соответственно, в рост пошел и спотовый рынок.
В то же время, металлурги утверждают, что их действия обусловлены, в первую очередь, увеличением расходов. С начала 2023 г. выросли железнодорожные тарифы, началось взимание с меткомбинатов акциза на жидкую сталь, резко подорожал ставший дефицитным металлолом. А так российский рынок выглядит более-менее сбалансированным. Комбинаты сообщают о полной загрузке мощностей внутренними и экспортными заказами, у дистрибьюторов складские запасы находятся на относительно стабильном и достаточном уровне.
В принципе, умеренное подорожание российский рынок проката может выдержать. Главное — не переусердствовать, иначе что-то может треснуть.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Да, это именно об индустриализации, становящейся насущной необходимостью в постглобальном мире, который на наших глазах все сильнее разделяется на обособленные зоны. Международные кооперационные цепочки начали рваться еще во времена ковида, а антироссийские санкции нанесли по ним окончательный удар.
Политика замещения критического импорта, которая без малого год тому назад стала для России вопросом выживания, начинает приносить первые плоды. В январе регулярно появлялись новости об освоении новых видов высокотехнологичной продукции, запуске новых производств и анонсах нового строительства. Например, только за прошедшую неделю и только на сайте МСС было опубликовано пять новостей о создании или расширении технопарков различной направленности.
Согласно очередному поручению президента, правительство, Банк России и ВЭБ.РФ должны разработать и реализовать дополнительные меры по поддержке инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции на общую сумму не менее 2 трлн. руб. Судя по принятым ранее постановлениям и озвученным планам, к ведущим направлениям относятся авиа- и судостроение, фармацевтическая, химическая промышленность, электроника.
В то же время, автомобилестроение в этом ряду, похоже, находится на втором плане. Если в авиапроме, фармацевтике, энергетическом машиностроении можно рассчитывать на достижение 100%-ной или близкой к ней локализации, то для автопрома эта задача слишком масштабная и грандиозная, требующая нескольких лет для реализации.
Срывать же, очевидно, надо в первую очередь самые удобно висящие плоды. А также сосредотачиваться на наиболее критических направлениях, где поставки импортной продукции реально прекращены и не могут быть возобновлены в обозримом будущем. Здесь, кстати, кое-где есть проблемы, которые пока не удается решить.
Новая индустриализация в российской экономике происходит в точечном режиме. Для более широких масштабов недостаточно ресурсов, причем самыми ценными и дефицитными являются не деньги, а кадры и компетенции. Зато естественным путем происходит селекция среди научных институтов и промышленных предприятий. Те, что могут прямо сейчас давать результат, буквально завалены заказами на годы вперед, и атмосфера там самая творческая. Впрочем, можно выделить примеры кластерного подхода, в частности, в оборонной промышленности, авиастроении и фармацевтике.
В общем, Россия много строит, а будет еще больше. Сбербанк в конце января сообщил о выдаче первых трех кредитов в рамках государственной программы «Промышленная ипотека». Правительство заявило о подготовке программы модернизации коммунальной инфраструктуры с объемом финансирования 440 млрд. руб.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в 78 субъектах Российской Федерации начата реализация 565 проектов, финансируемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на сумму 769 млрд. руб. Ввод в строй жилья в 2022 г. достиг рекордных 102,7 млн. кв. м, что на 12,7% больше, чем годом ранее. Впрочем, в этой отрасли как раз есть проблемы: с сентября показатели стали отставать от графика годичной давности.
Так или иначе, металлургические компании, характеризуя текущий видимый спрос на стальную продукцию, в последнее время употребляют термины «стабильный», «устойчивый» и даже «растущий». Последнее — прежде всего, в отношении листового проката, тогда как поставщики сварных труб общего назначения по-прежнему испытывают трудности со сбытом, а потребление арматуры оказалось в январе ниже ожидаемого из-за сложных погодных условий.
В целом на российском рынке стальной продукции в феврале ожидается умеренный рост заводских цен практически по всему основному сортаменту. Соответственно, будут подниматься котировки и на споте. Если не произойдет никаких серьезных негативных событий, этот процесс, вероятно, продолжится и в марте.
Пока что относительно слабой стороной для российских металлургов остается экспорт. Но, по некоторым данным, некоторые проблемы, причиненные санкциями, удается решать — без излишнего шума и огласки. Кроме того, определенные процессы идут и на макроуровне.
Будет, например, расширяться торговля с партнерскими странами в нацвалютах. А как заявил глава МИД России Сергей Лавров, на прошлой неделе посетивший ряд стран Африки, на саммите БРИКС в ЮАР в августе будет обсуждаться инициатива о создании общей валюты для этой организации, которая в ближайшем будущем может расширить свой состав в несколько раз.
«Серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту. Они видят недоговороспособность хозяев нынешней международной валютно-финансовой системы и хотят создавать механизмы для обеспечения устойчивого развития, которые будут защищены от диктата извне», — приводят российские и зарубежные СМИ слова российского министра. Немногим ранее идею внедрения общей валюты для южноамериканского интеграционного объединения МЕРКОСУР озвучил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Вот это уже по-настоящему важно. Западные страны сильно разбалансировали мировую финансовую систему еще в 2008 г., когда начали заливать кризис необеспеченными деньгами. Во время ковидной пандемии 2020-2021 гг. эта политика, можно сказать, дошла до апофеоза. Конечно, доллары и евро во всем мире еще признаются настоящими деньгами, однако одна из их основных функций необратимо нарушена. Какой смысл трудиться, реально зарабатывая эти деньги, если кто-то может просто брать их из тумбочки в любом количестве?
Если идея с общей валютой БРИКС+ сработает, это будет более сильный шаг, чем любые победы на фронте. Но и намного, в разы, на порядки более сложный, так как новая международная валюта потребует под себя создания и новой международной финансово-экономической системы, в которой она будет циркулировать. Как писал один известный автор, иногда, чтобы спрятать лист, надо сначала посадить лес.
Задача здесь заключается в том, чтобы создать альтернативу Западу как покупателю тех товаров и ресурсов, поставщиками которых сегодня выступают страны БРИКС+. И это на самом деле очень сложно, это дело даже не на годы, а на десятилетия. Однако, как минимум, одно из решений у нее есть. Это индустриализация, подтягивание вверх жизненного уровня миллиардов людей, проживающих в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Прогресс на этом направлении способен создать огромный спрос. Во многих развивающихся странах потребление стали на душу населения составляет порядка 50-100 кг в год. Доведение этого показателя хотя бы до 100-150 кг даст прирост в сотни миллионов тонн в год. Да если бы получить хотя бы небольшую часть этого рынка, российская промышленность загрузит все свои мощности, и их еще будет тотально не хватать.
Правда, при этом необходимо учитывать, что развивающиеся страны нельзя просто так поднять до уровня потребления нынешнего «золотого миллиарда», иначе наш мир постигнет настоящая ресурсная катастрофа. Новая «полуглобальная» экономика, если ее удастся построить, должна будет стать реально экономной, с бережным расходованием ресурсов, длительными сроками эксплуатации и тотальной вторичной переработкой.
Свет в этом туннеле пока еле виден, он едва-едва пробивается в туманной дали десятилетий. Но определенно он есть. Это реальный образ будущего, комфортного, справедливого мира без угнетения и дискриминации, который может быть построен. В том числе, учитывая ошибки, допущенные советскими «прогрессорами» и китайскими «инвесторами».
Впрочем, не менее хорошо известно, что любой план хорош лишь до первого столкновения с противником. Между тем, западные страны готовят свою индустриализацию, о которой, в частности, недавно заявил германский канцлер Олаф Шольц. Задачи там поставлены не менее грандиозные.
Западники видят решение своих проблем в полном отказе от использования ископаемых энергоресуров, запасы которых они, по большей части, уже не контролируют. Их экономика будущего построена на возобновляемой энергетике, тотальной электрификации, широкомасштабного использования накопителей электроэнергии и «зеленого» водорода, полученного методом электролиза.
Именно такие цели преследуют американский Закон о борьбе с инфляцией и европейская программа RePowerEU. Западные страны реально планируют перестроить свою энергетику и экономику в целом, делая ставку, в первую очередь, на свое информационное и технологическое лидерство. Если переход на «зеленые» технологии в целях, якобы, борьбы с глобальным потеплением станет общемировой тенденцией, Запад продлит свою пошатнувшуюся гегемонию на столетия. Дело ведь не в солнечных панелях и ветроустановках, а в создании целостных энергосистем, основанных на возобновляемой энергии. А в этом отношении США и Европа твердо рассчитывают на сохранение своего технологического доминирования.
Правда, следует отметить, что если модель будущего БРИКС+ подвержена, в первую очередь, организационным рискам (поди попробуй заставить политиков, людей крайне специфического плана, действовать сообща для решения долгосрочных задач!), то для западных стран наибольшую трудность могут составлять ресурсные ограничения.
Энергопереход потребует кратного увеличения потребления меди, никеля, лития, кобальта и других металлов и материалов. И это помимо триллионных инвестиций и резкого увеличения стоимости «зеленой» энергии по сравнению с традиционной. Между тем, большая часть необходимых ресурсов сосредоточена в развивающихся странах. И в последние годы их правительства позволяют себе все более жесткую политику в отношении западных корпораций, требуя для себя (а часто — и для своей страны) все большую долю пирога. Это становится причиной новых конфликтов. Недавняя «Оранжевая революция» в Перу с отстранением от власти президента-социалиста — очередной тому пример.
Прошедшая неделя была праздничной в Китае и других странах Восточной Азии, где отмечали наступление Нового года. Кроме того, в Индии 26 января праздновали День Республики. Но теперь пауза подходит к концу. Возобновление деловой активности, скорее всего, будет ознаменовано дальнейшим повышением цен на стальную продукцию. При этом темпы китайского роста станут ориентиром для всей Азии.
Российские компании резко подняли экспортные котировки на листовой прокат, воспользовавшись подъемом в Турции, которая в этом отношении идет за странами Евросоюза. Некоторые европейские металлурги нацеливаются на доведение базовых цен на горячекатаный прокат до 800 евро за т EXW по апрельским контрактам. В связи с этим Европа становится все более привлекательным рынком для поставщиков из других стран. Разрыв с Турцией и странами Персидского залива уже сейчас достигает $60-70 за т на базе CFR и, возможно, будет расширяться.
В то же время, конкуренция с импортом уже привела к снижению стоимости сортового проката в Евросоюзе. Да и с листовым не все однозначно вследствие ослабевающего спроса. В начале февраля цены на стальную продукцию на мировом рынке возрастут, в этом сомнений нет, но дальше будут возможны всякие варианты.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

На прошедшей неделе на первый план вышли военные новости. Особенно в этом усердствовали наши бывшие «партнеры», которые теперь совсем уже не партнеры. Буквально все западные политики посчитали своим долгом высказаться по теме танчиков и уверить, что они будут и дальше воевать с Россией «до победного конца».
Даже в Давосе, где в этот раз вместо глобального экономического форума вышел унылый междусобойчик подлинно независимых людей, т.е. тех, от кого ничего не зависит, танчики явно находились на первом месте, опередив даже завязшую в зубах борьбу с глобальным потеплением. Как говорится, узок круг этих зеленых революционеров, страшно далеки они от народа…
Экономическая тематика действительно отошла сейчас на задний план. Обсуждать тут, и в самом деле, казалось бы, нечего. Погода спасла Европу. Энергетического кризиса не будет. Природный газ и электроэнергия подешевели, благодаря этому пошли на спад инфляционные процессы. Рынки воспрянули духом.
В середине января пошел подъем на европейском рынке стальной продукции. Базовые котировки на горячекатаный прокат за последний месяц прибавили, в среднем, более 80 евро за т и достигли наивысшего уровня с начала октября. ArcelorMittal и U.S. Steel Kosice заявили о возвращении в строй доменных печей, остановленных осенью прошлого года из-за запредельных затрат на энергоносители и отсутствия заказов.
Впрочем, стоимость стальной продукции растет в последнее время почти везде. В Азии она достигла максимальных значений с июля прошлого года. Японская Nippon Steel, ранее открыто демпинговавшая на внешних рынках, объявила на март о подъеме экспортных котировок на горячекатаный прокат сразу на 25%, до $750 за т FOB. Спрос, на отсутствие которого еще недавно жаловались все, теперь восстановился и улучшается.
Одним словом, все колосится, цветет и пахнет, хотя на дворе отнюдь еще не весна, а лишь вторая половина января. Поэтому вопрос о том, как долго продлится нынешняя оттепель, остается открытым. Все-таки, многие эксперты продолжают высказывать опасения, что мировая экономика находится в неважном состоянии. МВФ предсказывает на текущий год снижение темпов ее роста до 2,7%, что станет худшим показателем в XXI веке, если не считать ковидного 2020 г.
О том, что далеко не все хорошо и благополучно, показывает пример Турции. В начале января там резко поднялись цены на металлолом и сортовой прокат. Но сейчас турецким компаниям приходится уменьшать стоимость арматуры из-за недостаточного спроса. Подешевел и металлолом, хотя в феврале от может снова прибавить по причине подорожания в Европе и США.
Рынок — это в некоторой степени саморегулирующаяся система. Снижение цен на тот же газ до всего лишь трехкратной величины от среднего показателя за последние несколько лет по сравнению с 6-8-кратной на протяжении всего четвертого квартала до середины декабря приведет к росту его потребления и тем самым сместит создавшийся на данный момент баланс. Кроме того, спрос на менее дорогостоящий в настоящее время сжиженный газ может прибавить и в странах Азии.
В Китае сейчас празднуют Новый год по местному календарю, так что бизнес ушел на каникулы, как минимум, на неделю, а то и на две. Между тем, ситуация там весьма не простая. Прошлый год для Китая выдался провальным по причине ковидных локдаунов и «жесткой» посадки в секторе жилищного строительства. Рост ВВП составил только 3%, что стало минимальным показателем с середины 70-х гг., если вывести за скобки 2020 г. с его чрезвычайными обстоятельствами. Инвестиции в основной капитал прибавили только 5,1% по сравнению с предыдущим годом, что для Китая очень мало. Причем частные компании показали лишь 0,9% роста.
Совершенно катастрофическим выдался прошлый год для китайской стройки. Инвестиции в недвижимость сократились на 10,0% по сравнению с 2021 г., продажи жилья упали на 24,3%, а количество новых строек — на 39,4%. Совокупный объем жилых площадей, находившихся в состоянии строительства, к концу 2022 г. уменьшился на 7,3% по сравнению с уровнем годичной давности до 6397 млн. кв. м. Хотя, конечно, это чудовищно громадный показатель. В Китае строят жилья в 60 с лишним больше, чем в России (96,8 млн. кв. м на начало 2023 г.), хотя по численности населения разница составляет менее 10 раз.
Однако прошлый год остался уже в прошлом. По прогнозу сингапурского United Overseas Bank, уже во втором квартале текущего года китайская экономика покажет устойчивый рост. Банковские аналитики указывают на три основных составляющих этого процесса. Во-первых, восстановление внутреннего потребительского рынка после отмены ковидных ограничений. Во-вторых, стимулирующая налоговая и фискальная политика правительства. В-третьих, начало выхода из кризиса строительного сектора.
Девелоперов снова подкармливают кредитами, позволяя им рефинансировать прежние обязательства, принимаются меры и по поддержке спроса на жилье. В то же время, китайским строителям после сеанса «шоковой терапии» в 2022 г., вероятно, приходится пересматривать традиционную бизнес-модель, основанную на непрерывном росте с опорой на заимствованные деньги.
По крайней мере, обращает на себя внимание то, что в 2023 г. не ожидается существенного увеличения потребления и производства стали в Китае. Консалтинговая компания Mysteel прогнозирует расширение видимого спроса только на 0,6%, а индийская SteelMint — всего на 0,15% по сравнению с 2022 г. Объем выплавки и вовсе может уменьшиться на 1-2%.
Поэтому и спрос на сырье будет умеренным. Нидерландский банк ING предсказывает среднеквартальные цены на железную руду в пределах $120-130 за т CFR Китай, хотя в течение года, безусловно, могут быть и более высокие скачки. Особенно, если учесть традиционный подъем в Китае после новогодних праздников. Однако котировки на ЖРС уже вошли в интервал, указанный нидерландским банком. Хватит ли им им силы дорасти, например, до $140 за т, — большой вопрос. Вообще, сырьевой фактор, проявляющийся на рынках руды и металлолома, играл немалую роль в январском подъеме на мировом рынке стали. Но к началу весны его повышательное влияние может сойти на нет.
На российском рынке стальной продукции тоже наблюдается рост, но в гораздо меньшей степени, чем на мировом. Особенно, это относится к горячекатаному прокату. С октября 2022 г. спотовые цены на эту продукцию выросли, в среднем, всего лишь на 1-1,3 тыс. руб. за т, а заводские — еще меньше. Экспортные котировки между тем прибавили более $50 за т, а если взять за точку отсчета начало ноября, то этот показатель возрастет до около $90 за т. Российская заготовка за последние два с половиной месяца подорожала на внешних рынках более чем на $50 за т, а арматура на внутреннем — на 1,5 тыс. руб. за т.
Да, металлурги объявили на февраль повышение в пределах 0,5-2,5 тыс. руб. за т для различных видов стальной продукции. Но при этом меткомбинаты отмечают, что из-за увеличения железнодорожных тарифов у них примерно на 1 тыс. руб. за т выросли логистические затраты, а экспортные слябы превысили отметку 30 тыс. руб. за т без НДС, что запустило механизм взимания акциза на жидкую сталь в размере еще немногим более 1 тыс. руб. за т. Получается, что рост цен на прокат в январе-феврале, по большей части, лишь компенсирует дополнительные затраты металлургов.
Падение объемов экспорта по сравнению с докризисными временами на протяжении очень долгого времени будет нескомпенсированной слабостью для ведущих российских металлургических компаний. Этот фактор будет сдерживать рост цен на внутреннем рынке даже в условиях относительно благоприятной внешней конъюнктуры.
На совещании по экономическим вопросам, состоявшимся 17 января, отмечалось, что в 2022 г. строительный сектор России дал 5,6% роста по сравнению с предыдущим годом. Вице-премьер Марат Хуснуллин предсказал на 2023 г. ускорение до 6-6,5%, но добиться этого будет совсем не просто.
Впрочем, по данным строительного портала ЕРЗ.РФ, в 2022 г. были выданы разрешения на строительство 49,3 млн. кв. м жилья, что на 23% больше, чем годом ранее, а объем действующих разрешений увеличился на 9,2% до 156,6 млн. кв. м (хотя из них больше трети не используется). Кроме того, в этом году будет, очевидно, продолжаться рост капиталовложений в инфраструктурные проекты.
Из отраслей промышленности наибольшее внимание государства уделяется транспортному машиностроению. Добыча нефти в 2022 г. возросла на 2%, экспорт — на 7%. В текущем году может произойти спад на 5-7% из-за санкций, но капиталовложения в нефтегазоперерабатывающую отрасль будут расширяться. После спада в прошлом году могут немного возрасти добыча и экспорт газа.
Хотя металлурги, безусловно сильно пострадали от действий недружественных стран, в целом российская внешняя торговля выправляется после санкционных ударов. По данным бельгийского НГО Bruegel, практически прекратили экономические отношения с Россией лишь Великобритания и еще очень немногие страны. Продолжает исправно поступать в страну даже «запрещенный» импорт.
Вот, Toyota в конце прошлого года возобновила прямые поставки запчастей в Россию и, по некоторым данным, закрывает глаза на параллельный импорт электроники и прочей подсанкционной продукции. Более того, исследование, проведенное швейцарскими специалистами из университета Санкт-Галлена и Международного института управленческого развития (Лозанна), показало, что реально покинули российский рынок менее 9% компаний из стран ЕС и G7. Остальные в той или иной степени продолжают сотрудничество с российскими партнерами.
Получается, что хотя политики «нагнули» западный бизнес, он втихую саботирует эти распоряжения. И есть еще один немаловажный момент. Еще после Первой Мировой войны стало понятно, что мобилизация — это война. И мобилизация экономики, получается, — это тоже война. Но признаков резкого подъема американской и европейской военной промышленности пока нет.
Вообще, главная проблема видится в том, что западные политики своими заявлениями о войне «до победного конца» отрезали для себя пути для отступления. Причем они полностью контролируют информационное пространство, что обеспечивает отсутствие альтернативных течений. Экономическая ситуация в странах Запада в целом неблагоприятная, но не кризисная. Глобальное потепление сыграло в их пользу. Вот такое несовпадение политики и экономики может вызвать во всем мире пагубный резонанс.
Впрочем, в нашей истории были уже такие, что тоже делали аналогичные заявления… летом 17-го. А потом пришла осень…
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Хорошо, наверное, когда год хорошо начинается. Причем, у всех. На мировом рынке стали первая половина января ознаменовалась ростом цен. В России тоже все немного сдвинулось вверх, но умеренно, что устраивает и поставщиков, и потребителей.
И в макроэкономическом плане дела в целом неплохи. Как, в частности, отмечалось на первом в 2023 г. совещании президента с членами правительства, никаких катаклизмов в российской экономике в прошлом году не произошло, да и в этом не предвидится.
С другой стороны, и наши геополитические противники ощущают себя вполне бодро. Рекордно теплая, да и еще и ветреная зима в Европе обрушила спрос на природный газ и обвалила цены на него и тарифы на электроэнергию. Благодаря этому снизился уровень инфляции. Западные СМИ успокаивают публику, заявляя, что теперь можно не опасаться дальнейшего роста процентных ставок и угнетения экономического роста.
Наконец, все в порядке и в Китае. Как бы ни гнали ковидную волну те же западные СМИ, 8 января там отменили все карантинные ограничения. Уровень заболеваемости ковидом, гриппом, ОРВИ, пройдя через пик, начал снижаться. Китайцы ждут Нового года, до которого осталось уже меньше недели. А в феврале, после завершения праздников, в стране ожидается экономическое оживление. По крайней мере, кризисный сектор жилищного строительства будут выводить из спада.
Итак, «все хорошо, прекрасная маркиза»? На данный момент о достаточно благоприятной обстановке могут говорить все. Но любая ситуация, как известно, может измениться. Прогнозы сегодня — дело неблагодарное, так как в любой момент могут появиться, как айсберг из тумана, совершенно новые и никем не предвиденные факторы. Но текущие тенденции все же можно рассмотреть в динамике.
Для российской экономики нынешний год станет перестроечным — в хорошем смысле слова. В прошлом году государство и бизнес считали потери, определяли самые неотложные нужды, составляли планы, разрабатывали механизмы… Что-то уже началось делаться, но в целом именно в 2023 г. приходит время перейти к конкретным делам. Уже появляются первые результаты импортозамещения на приоритетных направлениях. Их, в частности, демонстрируют авиастроение и отчасти автомобильная промышленность (КАМАЗ).
С легковыми автомобилями пока все сложно, и еще долго будет сложно, однако в совокупности отечественное машиностроение в этом году будет демонстрировать рост. Потребительский рынок все еще продолжает лихорадить, как и общество в целом. Тут спокойствие нам, как говорится, только снится. Вообще, время становится жестче. В информационном пространстве все чаще проявляются архетипы из 30-х гг. прошлого века. Все более активно проговаривается, что надо всемерно ускоряться, иначе нас сомнут. Но самые психологически сложные периоды все же остались позади.
Неоднозначным будет текущий год для стройки. Вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался перед президентом о рекордных объемах жилищного и дорожного строительства в 2022 г. Но даже повторить эти результаты будет непросто. Прежде всего, снижение оборотов возможно в жилищном секторе, хотя произойдет оно не в ближайшие месяцы. Прошедший год завершился мощным подъемом на рынке ипотечного кредитования, в этом году будет рулить семейная ипотека. В стадии строительства, по данным ДОМ.РФ, находится более 100 млн. кв. м жилья. Однако показатель запуска новых строек надо будет самым тщательным образом отслеживать.
Прошлый год показал, что обычными средствами российскую экономику не пошатнуть. Самым уязвимым местом в ней стали внешние отношения. Но президент на совещании с членами правительства не зря назвал расширение внешнеэкономических связей и выстраивание новых логистических коридоров первым направлением работы на текущий год. Так что, работа здесь идет и будет идти. А со временем, вероятно, придут и результаты.
Впрочем, наши геополитические противники тоже оказались достаточно крепкими. Европейцам сильно подыграла природа. Если не считать короткого похолодания в начале декабря, зима 2022/2023 гг. оказалась рекордно мягкой. Конечно, впереди еще ровно половина той зимы, а февраль, как известно, месяц лютый, но можно с достаточной уверенностью предположить, что энергетического кризиса в ближайшее время не будет.
Газохранилища в Европе заполнены почти на 80%, тогда как средний показатель для этого периода за последние пять лет составлял немногим менее 50%. Объем предложения сжиженного природного газа достаточно высокий. Европейская ветроэнергетика бьет рекорды, что снижает спрос на традиционные энергоносители. Правда, цены на газ и тарифы на электроэнергию, в среднем, в 3-3,5 раза выше, чем в 2017-2021 гг., что совсем не есть хорошо для региональной промышленности, но не в десять же!
Вообще, пессимизм сейчас проявляют только западные аналитики на рынке нефти. Они пытаются создать впечатление, что мировая экономика вот-вот может ухнуть в кризис, сравнимый с 2008-2009 гг. Поэтому цены на нефть должны оставаться относительно низкими несмотря на вероятный подъем в Китае.
Эксперты, отслеживающие другие сегменты глобального рынка, настроены куда более оптимистично и, наоборот, заявляют, что опасность кризиса миновала, а дальше будет все только лучше. В связи с этим некоторые специалисты допускают, что благодаря китайскому спросу нефть в этом году может снова превысить $100 за баррель.
Из всего этого вытекает, что конфликт будет решаться, по большей части, на поле боя. Выиграть экономическую войну, скорее всего, в обозримом будущем ни у кого не получится, хотя риски внезапного провала для Европы, безусловно, присутствуют. Это означает, что противостояние будет усиливаться, расширяться и институциализироваться. На официальном уровне продолжится нагнетание обстановки. Что, впрочем, не исключает восстановление некоторых деловых связей в неформальном плане.
Для мирового рынка стали доминирующий сейчас умеренный экономический оптимизм будет способствовать дальнейшему медленному повышению цен. Здесь наиболее важными представляются такие факторы как обстановка в Китае и стоимость сырья и энергоносителей. Впрочем, они тесно связаны друг с другом.
Китай в последние три года сдерживался ковидом, что влияло, в первую очередь, на логистику. Избавившись от этих пут, он может перейти к мощному восстановлению. Даже предчувствие такого подъема способствовало подорожанию железной руды до самой высокой отметки с начала июля прошлого года, а также развороту вверх нефтяных котировок. Если китайская экономика весной будет демонстрировать высокие темпы роста, сырье и стальная продукция продолжат дорожать.
Неизбежно поднимется тогда и сжиженный природный газ (LNG). В 2022 г. китайский импорт этого ресурса сократился на 20%, что во многом обеспечило резкое увеличение европейских закупок. Конечно, в этом году Китай будет получать больше трубопроводного газа из России и Центральной Азии, но могут прибавить и закупки LNG.
В конце декабря — начале января на мировом рынке подорожал, впрочем, и металлолом, к которому Китай не имеет прямого отношения. Здесь сработали следующие факторы. Во-первых, ломосбор в западных странах реально сократился из-за спада промышленного производства и сужения инвестиций в реальный сектор в 2022 г. Во-вторых, удешевление энергоносителей и появление более оптимистичных ожиданий способствовали расширению объемов выплавки стали в Евросоюзе и Турции. Таким образом, спрос на какое-то время превысил предложение.
Однако можно предположить, что значительного подъема цен на лом, сортовой прокат и заготовку не произойдет. Для этого необходимо увеличение конечного спроса на стальную продукцию, а этого ни в Турции, ни в Европе, ни в США не наблюдается. Что бы там ни утверждали СМИ, а экономическое положение западных стран отнюдь не блестящее. Острого кризиса может и не быть, но вялотекущая депрессия продолжается.
Без резкого повышения цен на стальную продукцию на мировом рынке не должно произойти и сильного удорожания проката в России. В феврале ожидается небольшое повышение, но не более того. Спрос и предложение на отечественном рынке в целом сбалансированы, а объемы экспорта российской стальной продукции в ближайшее время увеличиваться не будут. Курс рубля немного укрепился после сообщения Минфина о намерении проводить покупку валюты в период с 13 января до 6 февраля. Наверное, новых падений до сильно больше 70 руб. за доллар и в следующем месяце не произойдет.
В общем, все пока находится в состоянии относительного равновесия. Но в таком хаотическом мире, как наш, оно не может быть продолжительным. Вопрос лишь в том, что рванет, где и когда.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Вот и подошел к концу 2022 год, который принес очень много проблем, бед и волнений, но и ознаменовался серьезными достижениями. Жизнь во время перемен во всей красе, а перемены вокруг идут просто фундаментальные. С одной стороны, чувствуешь себя собачкой, у которой хвост рубят по частям. А с другой, так хоть как-то успеваешь приспособиться.
Завершается год так же беспокойно, как и проходил. Во второй половине декабря внезапно и неожиданно просел рубль, курс которого в самой «яме» доходил до более 72 руб. за доллар. Солидные валюты так не поступают!
Падение, достигшее в крайней точке более 17% по сравнению с концом ноября, изрядно обеспокоило многих участников российского рынка стали. Если ранее все ожидали спокойной пролонгации на январь декабрьских цен на прокат, то теперь появились тревожные ожидания роста заводских котировок.
Тем более, что и на внешних рынках стоимость российской стальной продукции пошла вверх. Благодаря подорожанию металлолома поднялись котировки на заготовку в Турции. Листовой прокат повсеместно прибавил под влиянием подъема в Китае.
К концу недели рубль, правда, немного укрепился. По мнению аналитиков валютного рынка, в ближайшее время его ожидает дальнейшее восстановление. Провал в начале второй половины декабря был вызван не какими-то фундаментальными причинами, а краткосрочным всплеском спроса на инвалюту и накопившимся негативом.
Да, конечно, определенную роль сыграло объявление потолков цен на нефть и газ в Европе. Но тамошние потуги ограничить рост газовых котировок на бирже России вообще не касается, так как «Газпром» осуществляет продажи по другим принципам. А на попытку вмешательства в мировой нефтяной рынок у российского руководства, наконец, нашелся свой ответ. После сообщения о котором цены на нефть на биржах как раз начали подниматься.
Поэтому можно предположить, что рубль все-таки чудить не будет и вскоре вернется к более привычным за последние месяцы значениям. Вследствие чего его воздействие на инфляционные процессы в России будет достаточно умеренным. В то же время, повышение цен на стальную продукцию за рубежом и влияние этого фактора на отечественный рынок может оказаться более продолжительным.
Первая причина этого роста заключается в высоком уровне затрат металлургических компаний. Цены на природный газ в обозримом будущем обречены колебаться между просто высокими и очень высокими. Хотя все-таки не заоблачными, поскольку в Европе, которая находится в эпицентре энергетического кризиса, потребление упало на 15-20% благодаря спаду в промышленности и режиму жесткой экономии в коммунальном секторе.
Вторая причина подорожания стальной продукции под конец года — это наличие покупательского спроса. Во второй половине декабря у металлургических компаний шли продажи в Евросоюзе, странах Персидского залива, Турции, Вьетнаме, Индии. Все уверились в том, что обвального мирового кризиса не произойдет, инфляция в западных странах снижается, резкого повышения процентных ставок не будет. В общем, все оборачивается не так уж и плохо, а значит, жизнь продолжается. Тем более, что во многих странах упало производство стали и проката, что помогло сбалансировать спрос и предложение.
Третий и, пожалуй, наиболее весомый фактор — это улучшение обстановки в Китае благодаря двум основным составляющим. Прежде всего, власти все-таки отменили или ослабили антиковидные ограничения, что расценивается как очень благоприятный сигнал для экономики. Кроме того, получила поддержку от государства строительная отрасль. Даже компания Evergrande, чьи финансовые проблемы в конце 2021 г. запустили весь маховик кризиса, возобновила работу более чем на 630 своих стройках.
Если Китай снова начнет раскручивать экономику, расширяя в первую очередь внутреннее потребление, это почувствует весь мир. Собственно, уже начал. Повышение котировок на прокат на китайском рынке сопровождалось соответствующим подорожанием железной руды и металлолома.
Кроме того, оживление в Китае — это практически гарантированный рост цен на нефть и, вероятно, повышение напряженности на рынке сжиженного природного газа. В 2022 г. импорт этого ресурса в КНР сократился, что позволило европейцам расширить свои закупки, а вот в 2023 г. китайские потребители газа могут оказать более серьезную конкуренцию европейцам.
Кстати, в начале прошедшей недели Китай как следует тряхануло. Отход от политики нулевой толерантности к ковиду привел к тому, что не только население, но и коронавирусы почувствовали свободу. Количество новых случаев возросло, хотя и осталось в несколько раз меньше, чем на пике в начале ноября.
Именно в этот момент Bloomberg и Reuters дружно как по заказу (а собственно, почему как?) разразились материалами одинакового содержания. В них постулировалось, что Китай, ослабляя вожжи, открывает страну для коронавируса. При этом следовал крутой накат на китайскую вакцину, которая будто бы тьфу-тьфу и фуфло по отношению к западной (в свете недавнего скандальчика с вакциной от Pfizer это смотрелось особенно пикантно). Заявлялось, что теперь Китай увидит, что такое десятки миллионов больных ковидной заразой и сотни тысяч смертей, и высказывалось беспокойство о том, что «беззащитный» Китай может оказаться естественной лабораторией по выведению нового жуткого штамма вируса.
В общем, из этих мутных (реально мутных) текстов можно было понять, что ослабление антикоронавирусного режима в Китае — это в целом плохо. А хорошо было бы, если бы Китай принял шефскую помощь западной фармы с ее «передовыми демократическими» вакцинами.
Беспокойство на китайском рынке продолжалось ровно два дня, после чего цены на все опять возобновили повышение, хотя и не так резво, с оглядкой. Однако эта история говорит, прежде всего, о том, что западным лидерам, которые контролируют местные СМИ, совершенно не нужно восстановление китайской экономики, а особенно, восстановление китайского спроса на ресурсы. Самим, знаете ли, не хватает!
В 2023 г. Новый год в Китае придется уже на 22 января, а в феврале, если все там будет благополучно, на местном рынке может стартовать новый подъем. Впрочем, в нынешние непростые времена сложно прогнозировать даже на пару месяцев наперед.
В России краткосрочные тенденции все же указывают на рост. Даже если рубль вернется в интервал 60-65 руб. за доллар, «послевкусие» останется. Кроме того, после Нового года поднимутся тарифы на железнодорожные перевозки и, вероятно, подорожает металлолом. Так что, металлургические компании настроены на постепенный рост цен на арматуру и горячекатаный прокат в течение первого квартала.
В более долгосрочной перспективе все, по большому счету, будет определять обстановка на фронтах. Это самый главный фактор, все остальные — производные от него.
Как верно отметил президент, любой конфликт завершается переговорами. Но проблема заключается в том, что у сторон нынешнего конфликта абсолютно различные модели будущего, которые полностью отрицают друг друга. Точек соприкосновения у них нет. И пока будущее окончательно не оформится посредством безоговорочной победы одной из сторон, мир так и будет находиться в неопределенном, промежуточном, непредсказуемом состоянии. И это может продолжаться долго.
По оценкам Bloomberg, антироссийские санкции обошлись Европе в триллион евро в виде повышенных затрат на газ, уголь и электроэнергию. Но, как известно, расходы несут одни, а политику определяют другие. Для них — это не причина и не повод менять свои установки.
Да и несмотря на все жалобы и плачи со стороны европейских промышленников, нынешние трудности однозначно считаются временными и преходящими. Западный мир продолжает жить в своей реальности, которая слабо пересекается с нашей. Так, Европа намерена решать проблему дороговизны традиционных энергоносителей посредством тотального отказа от них в пользу ветряков, солнечных панелей, атомных станций (в некоторых странах) и «зеленого» водорода.
За 2022 г. в Европе было анонсировано более десятка крупных проектов водородной металлургии. В Германии рассчитывают уже в 2024 г. получить из-за рубежа первые поставки водорода, а к 2027 г. построить сеть магистральных водородопроводов длиной 1800 км. Хотя на самом деле чисто технические проблемы, связанные с производством, транспортировкой и дороговизной «зеленого» водорода, получаемого на электролизерах, питаемых от возобновляемых источников энергии, не решены и, очевидно, не будут решены в обозримом будущем.
Борьба с выбросами углекислого газа продолжается с неослабевающей активностью. Так, уже в 2034 г. европейские металлурги полностью лишатся прав на получение бесплатных разрешений на выбросы. А в ответ на возражения со стороны ассоциации Eurofer, указавшей, что при таком подходе европейская стальная продукция из-за запредельной себестоимости станет полностью неконкурентоспособной на мировом рынке, было заявлено, что тогда европейские правила необходимо распространить на весь остальной мир.
Так что, быстро ничего не кончится. Поэтому процессы, что сейчас происходят в российской экономике, имеют долгосрочный характер. Сейчас перед российской промышленности стоит грандиозная задача — избавиться от зависимости от враждебных стран хотя бы там, где это можно сделать относительно быстро и без сверхусилий.
Для металлургов на первом плане находятся оборонная промышленность и автопром. Это означает курс на расширение сортамента, освоение множества марок спецсталей и спецсплавов, малотоннажное производство. Движение в этих направлениях уже началось, а в 2023 г. оно будет и дальше развиваться и расширяться.
В сфере массового производства критическую роль для российских металлургов будет играть строительный сектор как крупнейший потребитель стальной продукции. Однако боевые действия всегда высасывают кровь из экономики — в прямом и переносном смысле. В наших условиях крупное финансирование строительного сектора возможно будет только после завершения боевых действий или хотя бы радикального снижения их интенсивности.
Конец 2022 г. на российском рынке стали отличался относительной стабильностью. В принципе, она может продлиться и в начале следующего года. Но рынок будет подвержен рискам и сотрясениям, приходящим как изнутри, так и извне.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам оставило, признаться, неоднозначные впечатления.
С одной стороны, было озвучено много широкомасштабных планов, которые даже при частичной реализации принесут российской экономике очень много хорошего. С другой же, очень много направлений заявлены как приоритетные. Хватит ли на все ресурсов?
Особенно, в нынешней ситуации, когда военные расходы неизбежно оттягивают на себя средства, которые приходится изымать с других направлений и проектов. Так, по данным исследования «А Групп», в этом году сократились объемы дорожного и мостового строительства. А Центральный банк признает, что в экономике ощущается нехватка рабочей силы.
Безусловно, чрезвычайные, кризисные обстоятельства способны мобилизовать страну и заставить ее за считанные годы пробежать дистанцию, рассчитанную на десятилетия. Советские 30-е гг. при всех их трагедиях и издержках — как раз пример такого рывка.
Нынешние планы тоже весьма долгосрочные. За без малого десять месяцев, прошедших с февральских событий, успели лишь определиться с основной программой действий и кое-что стартовать. Но основная конкретика — это 2023-й, 2024-й, 2025-й и следующие годы. С промежуточным финишем в районе 2030 г.
Сделать предстоит очень много. В международном плане — это радикальный пересмотр внешней торговли и самой системы международных отношений. Как отметил на заседании Совета президент, за первые девять месяцев 2022 г. профицит России в торговле с Евросоюзом увеличился в 2,3 раза до $138 млрд. Причем, по его словам, Европа продолжает потреблять наши товары и услуги, а взамен ничего продавать не хочет. Такой дисбаланс не может продолжаться бесконечно.
Надо сказать, что Европа и сама работает в этом направлении. Эмбарго на российские товары, взрывы на «Северных потоках», недавно объявленный «потолок» на российскую нефть — это как раз шаги, нацеленные на сокращение российского экспорта в Евросоюз. Хорошо ли это или плохо, — вопрос философский. Это неизбежно.
Конечно, на первый план выходят энергопотоки, которые нужно развернуть в новом направлении. Строительство новых газопроводов в восточном направлении, новые заводы по сжижению природного газа, расширение железнодорожной сети и пропускной способности портов на Дальнем Востоке и т. д.
Но вопрос изменения экспортных приоритетов намного более широкий. Ранее Россия выступала, прежде всего, как поставщик энергоносителей, продовольствия, промышленных продуктов с относительно низкой степенью переработки, а импортировала, главным образом, потребительские товары, машины и оборудование. Сейчас эту модель надо менять. Импорт промышленных товаров сократился из-за санкций. А его экспорт так или иначе надо будет увеличивать. Российский рынок сам по себе узковат, а сегодня в мире основные прибыли создаются за счет масштабов.
Нынешняя деятельность по импортозамещению, созданию промышленных кластеров, укреплению технологического суверенитета неизбежно будет иметь и экспортную направленность. Ведь если появится возможность самим выпускать аналоги западной высокотехнологичной продукции, было бы странно не предложить ее другим странам, которые, может быть, тоже проявят заинтересованность в избавлении от зависимости.
В качестве примера здесь можно привести деятельность «Росатома». В мире, фактически, происходит раздел атомной энергетики на зоны. Так, Великобритания, Польша, Чехия, Румыния, Нидерланды, планирующие строительство новых атомных станций, никогда (по крайней мере, в нынешней системе международных отношений) не допустят к тендерам компании из России и Китая. Зато российские и китайские атомщики могут рассчитывать на заказы в странах Азии, Африки, Южной Америки. Нейтральное положение пока занимает Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), но и ей в будущем, возможно, придется присоединиться к той или иной технологической зоне.
Как сообщил на заседании Совета вице-премьер Денис Мантуров, определены приоритетные отрасли российской экономики. Это химическая промышленность, лесоперерабатывающая промышленность, автопром, металлургия, железнодорожное машиностроение и судостроение. Именно в них в ближайшие 7-8 лет будут реализовываться сотни инвестиционных проектов на триллионные суммы. И каждая отрасль будет тянуть за собой смежников и партнеров.
До конца текущего года, то есть, в ближайшие дни, правительство обещает подготовить две увязанные между собой стратегии развития — для металлургии и автопрома. Перед российскими автомобилестроителями стоит сложнейшая задача по возрождению национальной конструкторской школы и локализации производства компонентов, а перед металлургами — по обеспечению автопрома необходимыми видами стальной продукции и специальными сталями. Эта работа, кстати, ведется уже давно, потому, очевидно, сопряжение стратегий было в первую очередь проведено для двух данных отраслей.
Еще более важным потребителем для российской металлургии является строительный комплекс. При этом следует заметить, что многие программы по его развитию (инфраструктурное строительство, модернизация ЖКХ) фактически сдвигаются на 2024 г. На будущий 2023 г. на эти направления выделяются относительно скромные суммы.
Льготную ипотеку все-таки продлили до середины 2024 г., но повысили ставку до 8%. Было также заявлено, что приоритетной становится семейная ипотека под 6%, для предоставления которой расширяют критерии.
Вообще, строительный сектор сейчас находится в двойственном положении. С одной стороны, в 2022 г. будет поставлен новый рекорд в сфере жилищного строительства. Уже по итогам 11 месяцев было сдано 93,3 млн. кв. м жилья, что превышает результат всего 2021 г. Но, с другой, за последнее время резко возросло количество непроданных квартир, снижается число новых строек.
Как заявляют некоторые эксперты, нынешний механизм проектного финансирования плохо приспособлен к тому, чтобы девелоперы снижали цены на недвижимость. На сужение спроса они отреагируют уменьшением объемов предложения. Стройку может поддержать массовое возведение арендного жилья, но когда это будет?..
В конце года спрос на стальную продукцию в России немного активизировался. Это позволило металлотрейдерам приподнять цены на арматуру и сварные трубы, хотя они все еще остаются заниженными. Рынок в целом сбалансирован, поэтому особых изменений на нем в ближайшем будущем не ожидается. Хотя дистрибьюторы опасаются, что металлургические компании все-таки поднимут внутренние цены после Нового года, реагируя на рост за рубежом.
Действительно, стоимость стальной продукции на мировом рынке в последнее время поднимается. Центром этого роста является Китай, где правительство, с одной стороны, сильно смягчило ковидные ограничения, а с другой, заявляет о намерении поддержать бедствующую отрасль жилищного строительства.
На этих ожиданиях цены на прокат в Китае подскочили до самого высокого уровня за четыре-шесть месяцев, а экспортные котировки постоянно пересматриваются в сторону повышения. Если в ноябре некоторые китайские компании были готовы поставлять горячекатаный прокат в Китай по $500 за т CFR и менее, то сейчас цены вышли на отметку $600 за т. Примеру китайцев охотно следуют и компании из других стран Азии.
В то же время, европейским металлургам так и не удается толком увеличить свои котировки несмотря на высокий уровень энергетических затрат. Eurofer и национальные металлургические ассоциации каждую неделю публикуют, по меньшей мере, по одному обращению к Еврокомиссии, Евросовету, Европарламенту, правительствам стран ЕС (осталось только в ООН и всем людям доброй воли написать, наверное), взывая о необходимости срочного оказания помощи. Но все эти призывы пока что остаются гласом вопиющего в пустыне.
В Турции выросли цены на листовой прокат, но рынок сорта уже резко сбавил покупательскую активность. Котировки там поползли вниз, а следующим будет, наверное, металлолом. Точно так же, наверное, не удержится на заявленных высотах и российская заготовка.
Поэтому вряд ли российским металлургам удастся очень сильно поднять цены на экспорте. Тем более, что рынки сбыта для них остаются весьма ограниченными. Кроме того, стоимость стальной продукции в России и так выглядит сильно завышенной по сравнению с внешними рынками. Даже с учетом слабеющего рубля разрыв составляет порядка 15 тыс. руб. за т для горячекатаного проката. По сути, за счет прибыли от продаж в России металлурги компенсируют убытки, которые они несут на внешних рынках. А если зарубежные операции для них снова станут хотя бы безубыточными, это не повод поднимать цены для российских потребителей.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Прошедшая неделя выдалась немного странной. Впору подозревать глобальные рынки в шизофрении. Такое впечатление, что обстановка настолько неопределенная, что в каждом сегменте составили свою картину мира и действуют согласно с ее пониманием, не замечая, что рядом те же самые явления трактуют противоположным образом и поступают соответственно.
В начале декабря на мировом рынке дорожали стальная продукция и железная руда, поднимались спотовые цены на природный газ в Европе и Северо-Восточной Азии. Но при этом нефть, например, рухнула до минимальной отметки с начала 2022 г.
В принципе, подорожание газа можно объяснить приходом зимней погоды. Понижение температуры в Европе при этом сопровождалось безветренной погодой, из-за чего в регионе стало резко не хватать электроэнергии.
В Германии, Франции и Великобритании начали потихоньку готовить население к возможным веерным отключениям. Не сегодня и не завтра, конечно, так газохранилища в Европе полны почти на 90%, но в начале будущего года возможны всякие варианты. Особенно, если так и не будут решены проблемы с атомными станциями во Франции, Финляндии и Швеции.
Но вот нефть и стальная продукция демонстрируют странное расхождение. Увеличение стоимости листового проката, идущее, в первую очередь, в Азии, аналитики-эксперты объясняют тем, что дела в мировой экономике идут не так уж плохо. Как ожидается, Федеральная резервная система США на заседании 13-14 декабря не станет повышать базовую ставку или повысит ее совсем чуть-чуть, а не на 75 б.п., как в прошлые разы. Соответственно, вероятность рецессии будет меньше, спрос на стальную продукцию улучшится.
Кстати, доллар под влиянием таких новостей постепенно сдает позиции иене, юаню и евро. А этот фактор должен способствовать повышению долларовых цен. Что, в общем, и происходит на рынках стальной продукции.
Резко возрос градус оптимизма в Китае. После того как народ вышел на улицы, правительство существенно смягчило карантинные ограничения и пообещало впредь вводить их точечно, а не методом коврового бомбометания. Да и пик заболеваемости, похоже, прошел. Некоторые комментаторы даже высказывают надежду на то, что когда-нибудь в будущем году китайские власти вообще откажутся от принципа нулевой толерантности к ковиду.
Не менее важно и то, что правительство КНР сулит поддержку жилищному строительству. Пока что в форме новых кредитов девелоперским компаниям, но они и в самом деле отчаянно нуждаются в рефинансировании. По мнению американского банка Citi, если рецессии в мировой экономике не будет, а спрос на китайские товары в мире не сократится, экономика КНР уже весной 2023 г. сможет выйти практически на доковидные темпы роста и тем самым повысить глобальный спрос на ресурсы.
Однако, если послушать некоторых экспертов на нефтяном рынке, то нынешние тенденции в Китае пока не считаются там веской причиной для подорожания нефти прямо сейчас. И риск рецессии, по их мнению, полностью остается в силе. А в США сокращение коммерческих запасов нефти, что обычно воспринимается как сигнал к повышению, трактуется таким образом, что НПЗ уменьшают закупки сырья вследствие сужения спроса на бензин и дизельное топливо.
Впрочем, все это — отговорки. На самом деле, нефть целенаправленно топят, как уже не раз случалось на этом рынке. В последние дни на биржевых торгах ситуация развивалась по одному тому же сценарию: утром наблюдалось небольшое повышение, а после обеда по европейскому времени на рынок выходили американские игроки и устраивали новый обвал.
Понятно, что все это делалось с целью обеспечения «потолка» на российскую нефть в размере $60 за баррель. При нынешних котировках стоимость российского сорта Urals, который сейчас торгуется с сильным дисконтом к базовому «бренту», находится сильно ниже данной отметки. То есть, у России, вроде бы, нет никаких оснований для сокращения экспорта нефти. Что, в свою очередь, рассматривается как одна из основных причин для ее дальнейшего удешевления.
Но хотя цены на нефть можно регулировать нерыночными методами, подобные искажения возможны только в ограниченный период времени. Пройдут еще несколько недель, наступит Новый год, и тогда станет понятнее, что все-таки происходит с рынком и мировой экономикой в целом. Или она упадет в глобальную рецессию, и тогда стоимость всех ресурсов пойдет на спад, что неминуемо коснется и стальной продукции. Или же Китай или Турция, которая в последнее время демонстрирует неплохие экономические показатели, подтянут прокат вверх, а в Европе немного оживится спрос, что тоже будет способствовать повышению. В таком случае и нефть имеет все шансы вернуться на уровень $90 за баррель, а то и выше.
На прошлой неделе свои «шокирующие» прогнозы на 2023 г. опубликовал датский Saxo Bank. Интересно, что год назад он кое-что почти угадал. Например, ослабление «зеленой повестки» и откладывание планов по отказу от ископаемого топлива.
Актуальность климатической темы в текущем году, и в самом деле, заметно снизилась. Как оказалось, альтернативная энергетика не в состоянии заменить базовую генерацию, которая по-прежнему, в основном, базируется на традиционных энергоносителях и АЭС. Сейчас дошло до того, что Швейцария, зимой обычно импортирующая электроэнергию из Германии и Франции, которые сегодня сами стали энергодефицитными, рассматривает возможность введения запретов на использование электромобилей с целью ее экономии.
Также Saxo Bank в целом верно оценил тенденции повышения инфляции в западных странах, снижения влияния Facebook и роста внимания к гиперзвуковым технологиям. Поэтому стоит присмотреться к тому, что датчане прогнозируют для 2023 г., по крайней мере, в отношении экономики.
В частности, один из «шокирующих» прогнозов касается запуска широкомасштабного проекта энергоперехода. В принципе, климатическое лобби, и в самом деле, отчаянно нуждается в чем-то подобном. В Европе продолжают анонсироваться проекты в сфере водородной металлургии и производства «зеленой» стали. Но их инициаторы четко заявляют, что они могут быть реализованы только в том случае, если правительства возьмут на себя значительную долю затрат и обеспечат металлургов водородом в достаточном объеме и по разумным ценам.
Пока что технические проблемы энергоперехода и в самом деле выглядят непреодолимыми. Пока нет технологий массового и недорогого «хранения» электроэнергии, что жизненно важно для энергосистем, базирующихся на нестабильной ветряной и солнечной генерации. «Зеленый» водород, вокруг которого поднят огромный хайп, очень дорог и пока не может производиться в больших количествах. Кроме того, не решен вопрос с его транспортировкой потребителям.
Нужно также вкладывать гигантские деньги в электросети, начиная от ЛЭП и заканчивая строительством тысяч «заправочных» станций для электромобилей. Различные источники оценивают необходимый объем инвестиций в $3-4 трлн. в год в глобальном масштабе. Причем за этой суммой кроются не просто деньги, которые можно и напечатать, а реальные ресурсы.
В общем, или климатическое лобби в ближайшее время продавит свою повестку, заставив правительства пускать на ветер сотни миллиардов в интересах провайдеров «альтернативных» технологий, или масштабы «зеленого» безумия все-таки свернутся до более реалистичных пределов.
Также Saxo Bank прогнозирует сохранение высокой инфляции в западных странах и подъем цен на золото. Насчет второго сложно что-то сказать, так как этот рынок является еще более контролируемым, чем рынок нефти. Но вот в то, что западные правительства смогут побороть инфляцию, как-то совсем не верится. По крайней мере, их привычка затыкать все проблемы деньгами (в данном случае, проблему дороговизны энергоносителей) никуда не делась. И введение контроля над ценами, что также прогнозирует Saxo Bank, выглядит вполне вероятным. Собственно, это уже есть — в виде ценового потолка для российской нефти.
Кроме того, датчане видят впереди возможность запрета на налоговые гавани, что достаточно логично, учитывая развернувшуюся еще в «нулевые» годы XXI века тенденцию охоты на капиталы мультимиллионеров, которые не входят в сверхузкий круг «мультимиллиардеров», успешно перераспределяющих мировое богатство в свою пользу.
Реформирование японской финансовой системы и опускание курса иены до 200 за доллар по сравнению со 135-140 в настоящее время — это, скорее, из разряда фантастики. Такие финты могут позволить себе только суверенные страны, а не бесправные холуи. Впрочем, шансы на подобные изменения могут стать отличными от нулевых, если сбудется еще один прогноз Saxo Bank.
В нем заявляется, что страны, не являющиеся союзниками США, могут выйти из доллара и покинуть МВФ, чтобы создать свой международный клиринговый союз (ICU) и новый резервный актив. Вот в это вполне верится. По крайней мере, такая потребность есть, и она растет. Не исключено, что в 2023 или 2024 г. мы увидим радикальное расширение БРИКС и ШОС, сопровождающееся важными экономическими изменениями.
До светлого будущего, правда, еще надо дожить, но настоящее пока не дает особых поводов для пессимизма. Конечно, экономического спада в 2022 г. не избежать, проблем в российской экономике очень много, но инфляция снижается, а деньги, которые тратятся на СВО, по большей части, остаются в России. А это, по-своему, тоже инструмент раскрутки экономического роста, хотя и сопряженный с большими издержками.
Российский рынок стальной продукции в целом сохраняет устойчивость, особых изменений на нем не происходит. Стабилизирующую роль здесь играет политика меткомбинатов, намеренных пролонгировать декабрьские цены на январь. Некоторое снижение ожидается только по фасону и горячекатаному прокату. Наибольшие риски наблюдаются на рынке сварных труб, стоимость которых выглядит заниженной из-за недостаточного спроса.
Продление льготной ипотеки на 2023 г. становится менее вероятным, так как против него высказался не только Минфин, но и Центральный банк. Однако при этом предлагается оставить целевые льготные программы (семейная, дальневосточная). Кроме того, как сообщают «Известия», рассматриваются и другие механизмы стимулирования спроса на жилье, например, продажа в рассрочку для определенных категорий граждан. В принципе, это может дать результат, если проводить последовательную целенаправленную политику и давать однозначную оценку происходящим процессам.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Прошедшая неделя мало что изменила на российском и мировом рынке стали и вообще не принесла практически ничего кардинально нового. Все идет прежним чередом. Российская экономика в целом выдерживает санкции, западная — их последствия. Однако под покровом этой стабильности продолжают медленно развиваться процессы, которые когда-нибудь в неопределенном будущем могут вызвать резкие и достаточно внезапные изменения.
По данным Министерства экономического развития, спад ВВП в октябре составил 4,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, промышленное производство сократилось на 2,6%, обрабатывающие отрасли — на 2,4%. Результаты чуть лучше сентябрьских, но перелома не наблюдается.
Экономика продолжает переживать трансформацию. Возвращения к прошлому в отношениях в Европой не произойдет, как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. И это касается не только политики. Отрасли, прежде в значительной мере ориентированные на европейское направление, съеживаются.
С одной стороны, это, в первую очередь, автопром, учащийся жить без западных комплектующих. С другой — экспортные производства. По итогам января-ноября, по предварительным данным, уменьшил на 19,4% по сравнению с прошлогодним графиком добычу газа «Газпром». В число проблемных отраслей входят лесная промышленность и металлургия.
В то же время, внутренние заказы устойчиво растут. Импортозамещение, по сути, происходит явочным порядком: как говорится, жить захочешь, и не так раскорячишься. Данные Минэкономразвития показывают и увеличение объема инвестиций в основной капитал в третьем квартале на 3,1% по сравнению с прошлым годом в реальном выражении. Скорее всего, основной вклад в этот рост внесли проекты, реализуемые при поддержке государства.
Основных рисков, стоящих перед российской экономикой, пожалуй, три. Первый заключается в опасности дальнейшего усиления торговой блокады, которая пока что не сплошная. В некоторых случаях западные страны сами не стремятся заткнуть имеющиеся лазейки. Тем не менее, тенденция ужесточения контроля над импортом в Россию и противодействия российскому экспорту очевидна и будет сохраняться в будущем.
Второй риск можно обозначить двумя словами: не доглядели. Проблем, вызванных санкциями, очень много, поэтому растет вероятность того, что когда-нибудь что-то порвется на важном месте, с тяжелыми последствиями. Есть направления, на которых избавиться от импортной зависимости очень сложно. Какие-то компетенции утеряны еще в 90-х, да так и не восстановлены, каких-то не было изначально.
Наконец, в-третьих, есть риск внезапного спада в строительном секторе, который сегодня играет роль главной точки роста в российской экономике. Пока что объемы строительных работ и сдачи в эксплуатацию нового жилья демонстрируют подъем, но в последнее время там заметно снижение спроса на новостройки и сокращение количество новых проектов. Вызывает обеспокоенность и намерение правительства не продлевать действие программы льготного ипотечного кредитования после 2022 г.
В то же время, первые два риска с течением времени ослабевают. Бизнес — он как вода, везде себе дырочку найдет. Российская экономика уже больше девяти месяцев приспособляется к работе в новых условиях, и она таки приспосабливается. Продолжают развиваться связи с дружественными странами. Возможно, где-то вдали от прессы и прочих любопытных глаз идет работа по выстраиванию новой системы международной торговли и межгосударственных финансов, свободной от западного влияния. Поэтому и введение ценового потолка на российскую нефть не воспринимается как существенная угроза. Неприятность, конечно, но не смертельная.
Стройка, да, остается риском, хотя и отложенным. Впрочем, здесь надо ждать весны 2023 г. и смотреть, что будет происходить в ближайшие месяцы на других фронтах. Однако очевидно, что одними только рыночными методами решить поставленные задачи по расширению объемов жилищного строительства будет, скорее всего, невозможно. Надо или желать меньшего, или изобретать новые методы стимулирования. Хотя не надо забывать и об инфраструктурных проектах, в том числе, оборонной направленности.
В целом, пошатнуть стабильность российской экономики не так-то легко. Об этом свидетельствует относительная устойчивость отечественного рынка стальной продукции. Цены на листовой прокат практически не меняются два месяца. Арматура, похоже, достигла дна, от которого попытается оттолкнуться.
Есть проблема в том, что спотовые цены на многие виды стальной продукции находятся ниже заводских. Здесь стабильность больше мешает, препятствуя металлотрейдерам увеличивать стоимость проката. Металлурги, со своей стороны, заявляют о намерении сохранить текущие котировки. Но не исключено, что в конечном итоге разрыв понадобится сужать с двух сторон.
На мировом рынке главным событием конца ноября — начало декабря стало подорожание металлолома в Турции. Ожидается также, что этот ресурс поднимется в цене в Европе и США, а последними по этому пути пойдут страны Азии. Увеличение стоимости лома сопровождается повышением котировок на сортовой прокат в Турции, что улучшает положение российских поставщиков заготовки.
Турецкая экономика, похоже, оправляется от шока, перенесенного в начале осени, когда там резко подскочили цены на природный газ и тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей. Местная валюта уже несколько месяцев сохраняет стабильность, появилась активность в строительной отрасли. Правда, турецкая стальная продукция не слишком популярна на внешних рынках, не выдерживая конкуренции с прокатом из стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Поэтому подъем там может оказаться непродолжительным и смениться понижательной коррекцией.
Европейские металлургии опасаются даже не коррекции, а падения цен на сортовой прокат в январе. Запасы этой продукции в регионе сильно избыточные, а спрос может практически сойти на нет, если зима окажется холодной. Некоторые европейские мини-заводы готовы уже в конце этой недели уйти на рождественские каникулы, чтобы не рисковать.
Но в целом европейская экономика пока что демонстрирует отменную устойчивость. Несмотря на резкий рост цен на энергоносители, процентных ставок и инфляции в регионе пока не произошло ни одного крупного банкротства. Финансовая система держится, расходы населения и корпоративного сектора не снижаются.
Ответ здесь заключается в том, что Евросоюз и США пока что имеют возможность широко использовать свой главный инструмент — деньги, которые все еще считаются реальной валютой и принимаются всеми к оплате. По данным брюссельского исследовательского центра Bruegel, с сентября 2021 г. по 20 октября 2022 г. европейские страны выделили на поддержку экономики и населения 668 млрд. евро, из которых почти 270 млрд. евро пришлось на Германию. Поэтому дефицита денег в регионе нет, а за эти деньги пока что все можно купить.
При этом европейские промышленники требуют расширения объемов этой финансовой помощи, в частности, для компенсации расходов на газ и электроэнергию. В качестве примера они показывают на США, где с начала будущего года вступит в силу Закон по борьбе с инфляцией, предусматривающий, вопреки своему названию, выделение сотен миллиардов долларов на поддержку национальной промышленности. С ним связываются планы европейских компаний по выведению своих производственных мощностей из Евросоюза.
Кстати, именно сейчас Европа переживает свое первое испытание зимним похолоданием, которое приходится встречать в условиях безветренной погоды, минимальных поставок российского газа и неработающих атомных станций во Франции, Финляндии и Швеции. И посмотрим, какие будут результаты этой первой инспекции генерала Деда Мороза.
Экономика современного государства — это очень большая, сложная и инерционная система, в которой изменения могут накапливаться очень постепенно, а потом выдать резкий качественный скачок. И тогда покров стабильности слетает, обнажив бушующие под ним страсти.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Прошедшая неделя в мировой экономике стала, можно сказать, потолочной. В Европе на сходках членов Евросоюза активно обсуждались вопросы о введении потолков цен на российскую нефть и на стоимость природного газа в ЕС независимо от страны происхождения.
В обоих случаях результат оказался разочаровывающим для сторонников данной идеи. О нефтяном потолке так и не договорились, а по газу приняли такое «кривое» решение, что лучше вообще бы не принимали.
На рынке нефти «потолочники» оказались заложниками собственной концепции. Введешь низкий потолок, так Россия сократит экспорт нефти. С одной стороны, именно этого западники и добиваются, но, с другой, тогда на мировом рынке нефти возникнет дефицит, сама она станет дороже, и в результате европейцам придется платить больше. А в высоком потолке, чтобы под ним проходил весь российский экспорт, вообще нет смысла. Зачем тогда огород городить, ежели санкционная ограничительная мера на самом деле ничего не ограничивает?
С газом все вышло еще смешнее. Согласно предложенному Европейской комиссией механизму, который еще будет обсуждаться и утверждаться на новом сборище 13 декабря, корректирующие меры (какие именно, пока не сообщается) будут вводиться, когда цены на газ по контракту на месяц вперед (и только по нему) на нидерландском хабе TTF в течение двух недель подряд будут превышать отметку 275 евро за МВт-ч (примерно $3070 за 1 тыс. куб. м по нынешнему курсу). При этом данные цены в течение, как минимум, 10 биржевых дней должны более чем на 58 евро за МВт-ч ($648 за 1 тыс. куб. м) превышать стоимость сжиженного природного газа на приемных терминалах в Северо-Западной Европе.
Иными словами, ЕСовские власти вмешаются, только если произойдет нечто совсем эпически ужасное, потому что 275 евро за МВт-ч — это чудовищно много. За всю историю рынка газ на TTF превышал этот уровень лишь на протяжении четырех дней в конце августа 2022 г., причем не подряд. Четыре дня! А надо четырнадцать! Или еще летнее заявление Дмитрия Медведева о $5000 за 1 тыс. куб. м газа этой зимой кое-кем в Европе воспринимается как некое самосбывающееся пророчество?!
Впрочем, Еврокомссия и здесь поставила самой себе классическую вилку. Высокий, ничего не ограничивающий потолок — ну, посмеются немного (уже смеются). А установишь низкий, так можно в один прекрасный момент без газа остаться. Его просто продадут тому, что сможет заплатить больше.
Оба этих случая показывают, что рыночные силы в глобальной экономике все-таки действуют. Как говорится, можно долгое время обманывать меньшинство, можно на короткое время обмануть всех, но полностью и окончательно прогнуть рынок под себя не получится. Долгосрочные фундаментальные процессы рано или поздно возьмут свое.
Теперь о тенденциях, которые можно наблюдать на российском рынке. Банк России выпустил ноябрьский отчет: «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии». Индикатор бизнес-климата Банка России (ИБК) после октябрьского провала вернулся в положительную область. Индекс ожиданий пока уступает сентябрю, но вернулся на уровень августа. Текущая ситуация, правда, оценивается отрицательно, но лучше, чем в октябре или, скажем, в июне.
В то же время, Банк России указывает и на болевые точки в российской экономике. По данным отчета, «второй месяц подряд сложились негативные ожидания в строительстве и торговле автотранспортными средствами. В добывающей отрасли оценки вернулись в отрицательную область впервые с марта-мая 2020 г.».
Стройка, автопром, добывающая отрасль — это ведущие металлопотребляющие сектора. Поэтому не удивительно, что российский рынок стальной продукции по-прежнему находится на спаде, а индекс «МСС-ТР», который с марта рассчитывает МСС, показывает некоторое ухудшение ожиданий по сравнению с итогами. Причем самое глубокое снижение демонстрируют, с одной стороны, арматура, а с другой, спрос на стальную продукцию. Здесь потрясения конца сентября и октября не прошли даром.
В то же время, российский рынок проката, похоже, стабилизируется. Вполне вероятно, что в ближайшие несколько недель поползут вверх цены на арматуру, горячекатаный прокат, сварные трубы на споте. Прежде всего, конец отступлению ставят металлурги, заявляющие, что больше не могут снижать котировки на свою продукцию по причине высоких затрат. Металлолом постепенно прекращает дешеветь. Параллельно дорожает логистика. Сложной остается и ситуация с экспортом и в плане поставок, и в плане цен.
Пожалуй, важнейшим событием для мирового рынка стали в последнюю неделю стала отмена 15%-ных экспортных пошлин на стальную продукцию в Индии. При этом правительство призвало национальных металлургов наращивать внешние поставки. Однако сомнительно, что в ближайшее время мы увидим широкомасштабную экспортную экспансию индийских компаний. Во-первых, их и дома неплохо кормят — внутренние цены на листовой прокат в Индии на 5-7% превышают экспортные. Во-вторых, изменилась конъюнктура. Индийский (и никакой другой) прокат сейчас никому особенно не нужен, разве что, по совершенно демпинговым ценам.
Во второй половине ноября произошло знаменательное событие. Цены на горячекатаный прокат на юге Европы понизились до такой степени, что вытеснили с рынка импорт. Японские и корейские компании готовы поставлять эту продукцию не дороже 570-580 евро за т CFR, Но какой смысл ждать четыре месяца ее прихода, если свои же итальянские компании могут продать ее по такой же цене с доставкой через четыре недели?
А вот заявления некоторых европейских компаний о намерении поднять базовые цены до 700 евро за т EXW в январе, скорее всего, так и останутся сотрясением воздуха. Сильных похолоданий с воистину катастрофическими последствиями этой зимой в Европе может и не случиться, но и без них региональная экономика впадает в спячку, по меньшей мере, до весны.
Слегка улучшилась обстановка в Турции. Стабильная в последние месяцы валюта и низкие процентные ставки несмотря на недавние тревожные события привели к некоторому увеличению спроса на прокат строительного назначения. А металлурги убедились в ограниченном объеме предложения металлолома на мировом рынке. Пришлось им немного приподнять закупочные цены. Это может поддержать российскую продукцию на внешних рынках. Но как долго продлятся эти слабые положительные тенденции, сейчас никто не скажет.
В Китае пошел в мощное наступление ковид. Количество выявленных заражений достигло 30 тыс. в сутки, что превысило предыдущий пик в апреле. Из них, правда, более 85% бессимптомных, но в Китае привыкли относиться к вирусу предельно нетолерантно. Впрочем, за последние полгода в этой области произошли существенные подвижки. Весной при кратно меньшем количестве случаев весь Шанхай на два месяца посадили на жесткий карантин. Сейчас карантинные мероприятия смягчили, а ограничений стало меньше, хотя они все равно негативно влияют на экономику. Поэтому на китайском рынке стальной продукции с начала ноября в целом продолжается рост, но очень скромный и неуверенный.
Тем временем китайские власти обещают принять новые меры экономической поддержки, чтобы в 2023 г. разогнать темпы роста ВВП до 5%, как утверждают некоторые источники. Но для этого им надо будет сначала разобраться с ковидом. Впрочем, возможно, эпидемия — это такой способ организовать «мягкую посадку». В нынешней обстановке усиливающегося экономического кризиса мощности китайской промышленности избыточные. Более того, пытаться загрузить их по максимуму — это поднять цены на ресурсы, сейчас относительно щадящие.
Интересно, что российский рынок сейчас, наоборот, представляет собой поле непаханое. Не хватает так много всего, что любые инвестиции представляют собой высокую ценность. Так уж распорядились сейчас прихотливые рыночные силы.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Середина ноября стала примечательной тем, что в этот период наметился разворот ряда важных для мировой экономики тенденций. В связи с этим возникает вопрос: что это — краткосрочная флуктуация или реальное изменений условий?
Прежде всего, в западных странах стали гораздо меньше бояться рецессии, чем в начале-середине осени. Даже Европа, как считается, может вполне благополучно пережить наступающую зиму. США так вообще расцвели. Там поступили данные о снижении инфляции, что привело к подъему биржевых индексов почти что до прежних пиков, падению ставок по ипотечным кредитам, ослаблению доллара по отношению к евро, иене и юаню.
Считается, что в этих условиях не произойдет нового повышения ставки ФРС США. Соответственно, не будет удорожания кредитования, причем, не только в Америке, но и в других западных странах. Снова начнет расти спрос, в том числе, на металлопродукцию.
Еще один разворот произошел на рынке нефти. С конца сентября она в целом дорожала, а в начале ноября биржевые котировки по ближайшим контрактам достигали $97-98 за баррель «базового» сорта брент. Однако в последнюю неделю цены падали и в итоге опустились ниже $90 за баррель. Кстати, дешевеющая нефть и слабеющий доллар несколько противоречат друг другу. Точно так же стоимость нефти при прочих равных условиях не может падать, если экономические перспективы улучшаются.
Из этого проистекает не слишком приятный вывод. Рынки, особенно, биржевые, все больше переселяются в мир иллюзий, где правят бал пиар, хайп и художественный свист, а объективная реальность может прорвать эту фантомную завесу только в случае каких-либо очень громких и очевидных событий. Иногда их называют «черными лебедями».
Одним из признаков иллюзорности нынешнего благополучия западных стран является реакция региональных рынков стали. Весьма интересно, но они не отреагировали на поток положительных новостей и подъем на фондовых биржах. В США цены на горячекатаный прокат, согласно данным Argus, упали, в среднем, до менее $660 за короткую т ($727,5 за метрическую тонну), что в предыдущий раз наблюдалось в октябре 2020 г. В Европе котировки на аналогичную продукцию в ноябре продолжают снижение. Некоторые компании готовы продавать горячекатаный прокат по 600 евро за т EXW за базу. В пересчете в доллары это самая низкая цена с ноября 2020 г.
По-настоящему положительными новостями для этих регионов стали, во-первых, итоги выборов в США, которые не привели к смене власти. Под контроль оппозиции перешла только низшая палата Конгресса, да и то с незначительным большинством. Это означает преемственность и предсказуемость прежней политики.
Во-вторых, в пользу западников сыграла погода. Теплый октябрь в Европе, нехолодное начало ноября, высокая загрузка ветроэлектростанций — все это способствовало понижению цен на природный газ и оптовых тарифов н электроэнергию. Конечно, со временем погода портится, так что в середине ноября газ на нидерландском хабе TTF снова достиг 1100-1300 евро за 1 тыс. куб. м. Но по сравнению с августом-сентябрем это мелочи. Особенно, если учесть, что ведущие европейские страны объявили меры поддержки для населения и промышленных потребителей.
В последнее время сообщалось, что некоторые европейские производители минеральных удобрений, использующие газ в качестве сырья, снова нарастили выпуск, а в Италии подорожал металлолом в связи с расширением выплавки стали на мини-заводах.
С Европой ситуация понятна. Все это благолепие — до первого серьезного похолодания. По этой причине продолжается пауза в строительном секторе — многие частные проекты приостановлены. Потому же и потребители стальной продукции в регионе не выставляют новых заказов. У них еще накопленный ранее прокат не израсходован, да и перспективы на зиму весьма туманные. По мнению некоторых европейских аналитиков, активизация покупательского спроса в ЕС произойдет не раньше февраля, а то и марта.
В США неблагоприятные погодные условия тоже могут изрядно пошатнуть стабильность местной экономики. Техас и штаты Новой Англии в случае падения температуры могут стать «горячими точками». Местные энергосистемы, все больше зависимые от газовых энергоблоков и ветра с солнечными панелями, становятся все более неустойчивыми. Кроме того, нынешняя ставка ФРС в размере 4% для американской экономики весьма высокая и явно не полезная. А ее снижение пока не планируется.
В ноябре, кстати, проводились глобальная конференция COP27 по климатической политике и саммит G20. Здесь «вишенкой на торте» стало подписанное на G20 соглашение между США и Японией, с одной стороны, и Индонезией, с другой. В соответствии с ним западные страны пообещали выделить Индонезии $20 млрд., чтобы та закрывала свои угольные энергоблоки и строила вместо них ветряные и солнечные станции, тем самым борясь с глобальным потеплением.
Здесь замечательно все. Индонезия — третий по величине производитель и первый экспортер угля в мире. И экономическое развитие страны, разбросанной по тысяче крупных и мелких островов, ранее однозначно связывалось с угольной энергетикой как самой дешевой и доступной. Недавно местное правительство подсчитало, что для перехода на возобновляемые источники стране потребуется не $20 млрд., а несколько больше — порядка $600 млрд. в нынешних ценах до 2050 г. Наконец, похожее соглашение было заключено на прошлогодней COP26 с ЮАР, которой пообещали $8,5 млрд. на проведение энергоперехода. Денег, что характерно, южноафриканцы пока не получили.
От западных стран, где реальные экономические процессы все сильнее скрываются под флером иллюзий, перейдем к Китаю. В ноябре там подорожала стальная продукция, вернувшись на уровень полуторамесячной давности, а железная руда вообще достигла максимального показателя за три месяца. При этом обозреватели не скрывали, что рост был основан, в первую очередь, на ожиданиях.
Китайское правительство пообещало поддержать бедствующих девелоперов, которые сохраняли финансовую устойчивость только за счет постоянного роста, а тот в текущем году внезапно прекратился. Было заявлено о некотором ослаблении ковидных ограничений. Но, в то же время, в Китае сейчас, наоборот, новая вспышка, целые города и провинции сажают на карантин. Собственно, именно этот фактор называется в числе основных причин снижения цен на нефть. Считается, что в ближайшее время транспортные ограничения в Китае будут сильно сдерживать спрос на нефтепродукты.
Впрочем, вскоре нефть может снова подорожать. С 5 декабря вступят в силу европейские санкции на российскую нефть. Последствия непредсказуемые. Но наиболее вероятным, по мнению экспертов западных инвестиционных компаний и банков, станет сокращение объемов российского экспорта, что приведет к дефициту и скачку цен.
В общем, каждый рынок сейчас живет в своем режиме, по-разному реагируя на одни и те же события и процессы, так как рассматривает лишь отдельные аспекты, вырванные из контекста. При этом на общем фоне стальная продукция производит впечатление одной из самых вменяемых. США и Европа падают и надеются на стабилизацию на низком уровне. Китайские компании повысили экспортные котировки в связи с укреплением юаня (который после G20, правда, опять начал опускаться) и улучшением обстановки на местном рынке. Однако это только восстановление после провала в октябре. Рост возможен только инфляционный, если у металлургов опять возрастут затраты на энергоносители.
Продолжается спад в Турции. Внутренний спрос слабый, с экспортом плохо. Турецкие компании понижают котировки на сортовой прокат и заготовку, что приводит к соответствующему удешевлению российских полуфабрикатов. Цены на опускаются до $500 за т FOB и менее. Остается надеяться только на то, что туркам не удастся сбить металлолом до $300 за т CFR. Пока что последняя цена на этом рынке — $334 за т.
Лом в ноябре немного прибавил в некоторых странах Европы на волне потепления и уменьшения энергозатрат. Но если зима будет холодной, спрос на него опять сузится. Впрочем, здесь может сыграть и другой фактор — сокращение объемов предложения. По оценкам итальянской ассоциации Assofermet, ломосбор упал на 50% по сравнению со средним уровнем последних лет. Причем в качестве одной из основных причин называется падение цен.
Металлолом может сыграть аналогичную роль и на российском рынке. Цены на арматуру продолжают падать. Нижний предел на споте опустился до 39-40 тыс. руб. за т с НДС. Строительный сектор все еще переживает спад, спровоцированный мобилизацией. Оправляться он от него будет еще достаточно долго. Заявление правительства о прекращении программы льготной ипотеки может подхлестнуть спрос в декабре, но потом (если не будет принято какое-нибудь новое решение) произойдет неизбежное падение.
Российские металлурги, видя удешевление стальной продукции, быстро снижают закупочные цены на металлолом. Некоторые компании его в данный момент вообще не приобретают, так что предложение как бы не превышает спрос. Но в этом спаде прорастают корни будущего подъема. Удешевление сырья вызовет дальнейшее падение ломосбора, а потом «придет весна, и попросишь ты у меня металлоломчика»… Впрочем, разворот может произойти и раньше, например, в январе или вообще перед Новым годом.
В общем, российская экономика отнюдь не является «островком стабильности», как выразился на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) первый вице-премьер Андрей Белоусов. Скорее, следует прислушаться к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая немногим ранее заявила, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации в экономике. По ее словам, условия могут ухудшиться, но необходимо осуществить структурную трансформацию.
Власти, как и ранее, делают основную ставку на крупные частные и государственные компании, от которых ждут новых проектов, инвестиций и инноваций. При этом правительство готово им всячески содействовать. В то же время, системы массовой поддержки на уровне среднего бизнеса нет и, очевидно, не будет. Есть ФРП с ее фильтром, есть «Фабрика проектов» от ВТБ, и этого достаточно. Не прошедшим через это сито надо надеяться, в первую очередь, на себя, быть ко всему готовым и не строить иллюзий.
Как ни закрываться в своем уютном мирке, реальность рано или поздно находит возможность напомнить о себе.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Прошедшая неделя была не простой, а очень даже Неделей металлов в Москве. За это время состоялись 25-я конференция «Российский рынок металлов» и прошедшая уже в 28-й раз Международная промышленная выставка «Металл Экспо», которую за четыре дня посетили около 22 тыс. человек.
Выставка и ее обширнейшая деловая программа оставили после себя массу всевозможных впечатлений. Они относятся и к общей обстановке, и к состоянию отечественного рынка стали, и собственно к российской металлургии, и к производству оборудования, и ко многим другим вещам.
Прежде всего, мы все находимся в положении той собаки, у которой нога попала в колесо: пищи, а беги. Во время беседы с одним представителем некой зарубежной компании, официально не принимавшей участие в «Металл-Экспо 2022», возник следующий вопрос: «Что должна сделать Россия, чтобы с нее сняли санкции?» Ответ на него оказался таким, что даже собеседник согласился: пусть уж тогда санкции останутся, от них, по крайней мере, потери во много раз меньше. Да и нет никакой гарантии, что та, другая, сторона, добившись своего, выполнит свои обещания.
Конечно, есть не совсем нулевая вероятность, что санкции снимут наши оппоненты, не выдержав понесенного из-за них ущерба. Но пока на такой исход надеяться не стоит. Что-то может измениться, разве что, в случае очень холодной и продолжительной зимы, что резко поднимет спрос на энергоносители и приведет к их новому подорожанию. Однако погода – это такой ненадежный и непредсказуемый фактор!
Вообще, следует отметить, что нынешний кризис на энергорынке имеет достаточно точный дедлайн. Это 2026 год, когда в строй вступят огромные мощности по сжижению газа в США и Катаре. С того момента мировой рынок природного газа на какое-то время превратится из дефицитного в избыточный, а цены на этот ресурс упадут. Кроме того, за ближайшие год-три сократится и потребление самого газа в Европе посредством ликвидации части потребителей.
Стратегия измора с нашей стороны может, правда, основываться не только на энергетике, но и на долгосрочных макроэкономических тенденциях. Западные страны, действительно, идут вразнос из-за безответственной финансовой политики, соединяющей инфляционную накачку экономик пустыми деньгами с повышением процентных ставок. Но, как известно, если джентльмены начинают проигрывать, они меняют правила.
На прошлой неделе США официально признали российскую экономику нерыночной. Строго говоря, это правильно, но ведь и западные экономики являются рыночными не в большей, а то и в меньшей степени. Те же антироссийские санкции, климатическая политика, ESG-повестка, всевозможные субсидии, гранты, компенсации цен на газ и тарифов на электроэнергию – все это совершенно не рыночные шаги. Вся мировая экономика, по сути, превращается в зону анархии, где господствует лишь право сильного.
Именно в тех областях, где Запад доминирует и может сколько угодно злоупотреблять своей властью, Россия несет наибольшие потери. Металлургические компании не могут отправлять свои продукцию за рубеж, потому что иностранные суда боятся заходить в российские порты и перевозить российские грузы. На границе с Евросоюзом фактическая блокада. Потребители не хотят иметь отношений с российскими компаниями, поскольку с ними крайне тяжело вести денежные дела, так как банки опасаются вторичных санкций.
Более того, во многих западных странах торговля с подсанкционными российскими компаниями – дело подсудное. По закону, «прозванивать» надо всю цепочку покупателей, чтобы рядом с ней даже не стояло никого из запрещенного списка.
В то же время, большинство российских промышленников так или иначе решают свои проблемы с оборудованием, материалами и комплектующими, что обычно попадали к нам из недружественных стран. Правда, это обходится много дороже, с сильной затяжкой сроков и большими осложнениями с доставкой и ограничивается, в основном, крупным бизнесом. Ради таких клиентов даже западные поставщики могут закрыть глаза на некоторые вещи. А вот средним по величине российским компаниям приходится по-настоящему туго.
Достаточно широкое развитие получил сервис «покупки под заказ», прежде всего, в дружественных странах. Там надо знать, к кому обратиться, кто может дать правильное качество по приемлемой цене, как провести платежи и выстроить логистику. Последнее особенно важно, учитывая продолжение жесткой антиковидной политики в Китае.
Впрочем, очевидно, что очень многое нужно уметь делать в самой России. Некоторые вещи вообще не изготовляют в дружественных странах или не могут обеспечить требуемого качества, и это самый тяжелый случай. С такими проблемами, например, столкнулся российский автопром, который вполне вышел на западные стандарты, ради чего пришлось отказаться от ряда собственных разработок. Теперь некоторые компетенции утеряны, порой, целиком. Их надо восстанавливать, но для этого нужны, прежде всего, люди. Вот в таких экстремальных обстоятельствах и понимаешь, что человеческий капитал, действительно, самый ценный.
При этом следует отметить, что такой капитал в России есть. Даже в такой сложной во всех смыслах сфере как производство оборудования в некоторых областях появились (или были, но раньше слабо использовались) передовые отечественные разработки. Компании, которые и ранее использовали российские и китайские источники сырья и комплектующих, сейчас на коне. В одной такой фирме сообщили, что в феврале у них заказов было на полгода вперед, а теперь – на два года. Все более широкое распространение получает сервис производства под заказ, в том числе, с целью импортозамещения.
Для российских металлургов последние месяцы выдались сложными. Экспорт упал, причем не только из-за санкций, но и по причине низкой востребованности стальной продукции в условиях кризиса. Хорошо еще, что в начале ноября китайцы перестали сбрасывать цены на прокат и полуфабрикаты. В октябре большинство местных компаний потерпели убытки, так что сейчас они вынуждены сокращать производство и потихоньку увеличивать котировки.
В конце осени падение спроса произошло и в России. Причем, по-видимому, немалую роль здесь сыграли не столько сезонные, сколько психологические факторы. Мобилизация и ее последствия обошлись весьма недешево. Это вызвало падение на рынках арматуры и сварных труб до уровня сентября-октября 2020 г.
В то же время, металлурги не намерены пока идти на существенные уступки и считают ноябрьские цены дном или близкой к нему величиной. Одновременно сталелитейные заводы уменьшают закупку металлолома и снижают его стоимость. Это в будущем может обернуться дефицитом и скачком котировок на лом круто вверх.
Однако прогнозы на 2023 г. достаточно оптимистичные. Больше всего надежд возлагается на стройку. Там главную роль, как ожидается, будут играть проекты с госфинансированием – инфраструктура, включая железнодорожное строительство, восстановительные работы на Донбассе, обещанная программа обновления коммунальной инфраструктуры и др. В нефтегазовом секторе резкое расширение спроса было в 2022 г., но и на будущий год не ожидается просадки. Наконец, будет постепенно улучшаться ситуация в машиностроении.
Все равно, иного варианта, кроме как развиваться, строиться, импортозамещать, крепить экономические связи с дружественными странами, у страны нет. Раз колесо закрутилось, надо пищать, но бежать, что есть мочи. Иначе можно не только без ноги, но и без головы остаться!
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Главной темой прошедшей недели, пожалуй, стала энергетика. Российская энергетическая неделя дала немало поводов для размышления. Кроме того, свои ответные ходы сделали США и европейские страны.
Итак, с подачей российского газа в Европу через Балтийское море покончено, да здравствует море Черное! Так можно оценить предложение президента о прокладке новых подводных газопроводов в Турцию и создании там газового хаба. Причем турецкий руководитель Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать такой хаб во Фракии, т. е. европейской части страны.
Вообще-то, в этом проекте можно выявить несколько уровней. Прежде всего, его озвучивание означает, что российское руководство все-таки рассчитывает на продолжение поставок газа в Европу. Учитывая, что Евросоюз еще до начала текущего года заявлял о намерении избавиться от российского импорта после 2030 г., это достаточно смелая идея.
Предложение подобного проекта (судя по молниеносной реакции Эрдогана, это не троллинг европейцев, а реальное предложение) требует, прежде всего, коренных и радикальных изменений в европейской политике. При нынешних властях его реализация принципиально невозможна, как минимум, по двум причинам.
Во-первых, это их хроническая «пещерная» русофобия, а во-вторых, фанатичная верность «зеленой» повестке. Решать проблему, связанную с дефицитом природного газа, в современной Европе собираются путем решительного отказа от его использования с заменой на солнце и ветер в энергетике и на «зеленый» водород в промышленности.
И то, и другое — это бред, но в сегодняшнем Евросоюзе совершенно безальтернативный. Или мы пока чего-то не знаем? Впрочем, срок строительства трубы через Черное море — не менее года-двух, а за это время многое может измениться. Но настолько радикально?! К тому же, при реализации данного проекта ключевым звеном станет Болгария как единственное, по сути, окно в Юго-Восточную и Центральную Европу.
Впрочем, ничто не мешает поставить на другом конце трубы где-то на побережье теплого Эгейского моря завод по сжижению природного газа. Хотя, конечно, качать туда газ с самого Ямала будет дороговато, но зато подобное предприятие будет расположено гораздо удобнее, чем «АрктикСПГ». Оттуда проще будет отправлять газовозы и в страны Индостана, и в Юго-Восточную Азию, и в ту же Европу.
В Китай российский газ будет идти, по большей части, по трубам. На той же Российской энергетической неделе было заявлено о готовности к строительству второго магистрального газопровода в этом направлении, который к тому же пройдет через территорию Монголии. И самое главное, будет построена перемычка, которая позволит перенаправлять в Сибирь и Китай те газовые потоки, которые раньше шли в Европу.
В общем, хотя боевые действия все еще продолжаются и, возможно, увы, будут продолжаться еще долго, в российском руководстве, очевидно, идет интенсивная работа по созданию будущего мира, свободного от западного доминирования и диктата. Хотя самое важное здесь — это внедрение альтернативной финансовой системы без доллара. Иначе одна лишь угроза вторичных санкций со стороны США будет блокировать многие перспективные начинания.
Впрочем, американцы сами активно строят свой проект будущего. В последние месяцы в США неоднократно анонсировали возведение новых крупных промышленных предприятий. Это единственная западная страна, в которой расширяется производство стали и алюминия, причем в очень серьезных масштабах. Американцы после 30-летнего перерыва возобновили добычу кобальта, намерены развивать отрасли по производству лития, редкоземельных металлов, меди. На прошлой неделе японская Honda Motor и корейская LG Energy Solution объявили о намерении построить в США завод по выпуску литийионных аккумуляторов стоимостью $4,4 млрд.
Одновременно США продолжают усиливать давление на Россию. Выдвинуто предложение о введении запрета на импорт российского алюминия, которое всеми силами поддерживается американской компанией Alcoa. Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен объявила о намерении установить потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.
При этом понятно, что введение такого потолка отправит на свалку понятие коммерческой тайны вслед за банковской, которую ликвидировали еще в конце «нулевых». И вообще, это опасный прецедент, так как при успехе данного начинания ничто не мешает установить ценовой потолок и на что-то еще. Если будет сделана попытка реального внедрения нефтяного потолка, последствия будут непредсказуемыми.
О необходимости введения потолков цен на электроэнергию и природный газ вовсю говорят в Европе. Но пока не совсем понятно, как именно это должно осуществляться на практике. Кроме того, реализацию идеи взяла на себя Еврокомиссия, а это означает необходимость достижения консенсуса.
Пока что европейские страны решают энергетические проблемы по одиночке. Основная концепция заключается в том, чтобы обложить налогом сверхприбыли «негазовых» энергокомпаний, а затем распределить эти средства между потребителями.
Так, например, в Германии комиссия, созданная правительством для решения газовой проблемы, выдвинула такой вариант. С 1 января 2023 г. по 30 апреля 2024 г. для промышленных потребителей предлагается установить максимальные цены на газ в размере 70 евро за МВт-ч (около 752 евро за 1 тыс. куб. м) в пределах до 70% от объемов потребления в 2021 г. Для населения — 120 евро за МВт-ч с 1 марта 2023 г. и до 80%. Все, что выше, покроет государство. Расходы оцениваются в 93 млрд. евро на все про все.
Тут есть два аспекта. Во-первых, 752 евро за 1 тыс. куб. м — это много. В несколько раз дороже, чем до осени 2021 г. Так что, конкурентоспособность германской промышленности существенно не улучшится. По оценкам бывшего главы британской газовой компании Centrica Иэйна Конна, высокие мировые цены на газ сохранятся, как минимум, до 2025-2026 гг., когда войдут в строй крупные мощности по сжижению газа в США и Катаре. До этого времени Европа может в значительной мере деиндустриализироваться, причем, черная и цветная металлургия находятся в зоне риска.
Во-вторых, это инфляционное решение. Субсидирование приведет к тому, что потребление газа в Европе останется достаточно высоким, а значит, зимой снова пойдут вверх цены, выбивая с рынка Пакистан, Бангладеш и других покупателей победнее. И вообще, мировую экономику может ждать новая порция импорта инфляции. Дополнительная и очень веская причина, чтобы отгородиться от западных стран с их безответственной финансовой политикой.
На рынке стали Евросоюз ввел новые санкции против российских полуфабрикатов. Да, установлена вполне пристойная квота на слябы до конца сентября 2024 г, а на заготовку — до конца первого квартала 2024 г., но затем вступит в силу запрет. Более того, компании, использующие российские полуфабрикаты для изготовления своей продукции, не смогут поставлять ее на европейский рынок. Это весьма актуально, прежде всего, для Турции. Тут остается надеяться только на то, что два года в нынешнем нестабильном мире — немалый срок, в течение которого что-то может измениться.
Между тем, на мировом рынке стали появилась новая тенденция. Прежняя относительная стабильность переходит в спад. В первую очередь, это затронуло Европу, где спрос характеризуется как практически нулевой. Металлургические компании, у которых еще остались незаполненные портфели заказов на четвертый квартал, вынуждены сбавлять базовые цены на горячекатаный прокат до 700-730 евро за т EXW. Ни о каком подъеме до 800-850 евро за т, который пробовала объявить в сентябре группа ArcelorMittal, речь не идет.
Вообще, это понижение стало возможным еще по той причине, что у европейских компаний уменьшились затраты на энергию и энергоносители. Но вскоре в ЕС начнется сезонный рост потребления энергии, и тогда ситуация может снова измениться.
Однако снижают цены не только европейцы. После праздников в начале октября подешевела китайская стальная продукция. В ряде городов произошли новые вспышки ковида, так что рассчитывать на отмену коронавирусных ограничений теперь не приходится. Кроме того, стало очевидным, что спад в китайском жилищном строительстве представляет собой длительную тенденцию, а промышленность лишилась части экспортных заказов от европейских клиентов. Агрессивную ценовую политику также ведут металлургические компании из Японии, Индонезии и, понятное дело, России.
Отечественным предприятиям ранее удалось неплохо обеспечить себя внешними заказами на октябрь-ноябрь, но со следующими месяцами пока довольно грустно. Если бы не ослабление рубля, меткомбинатам стало бы вообще тяжело. Но курс — величина переменная. Рассчитывать на что-либо здесь трудно.
На внутреннем рынке самым сильным негативным фактором стала мобилизация, вызвавшая, в частности, резкое падение спроса на жилье и перекосы на потребительском рынке. Вероятно, заявление президента о том, что она все-таки завершится через две недели, должно немного успокоить обстановку. Ведь не 41-й год на дворе, чтобы проводить ее перманентно.
Цены на арматуру в России продолжают снижаться, и этот процесс уже, пожалуй, необратимый. В то же время, на споте удешевление происходит быстрее, чем на первичном рынке. Причем металлурги считают, что у них котировки оптимальные, и корректировать ничего не надо. Листовой прокат выходит на пик подъема, а где-то в ноябре-декабре и в этом секторе должно начаться отступление.
Впрочем, эта относительная стабильность не означает, что пора заваливаться в спячку.Наоборот, в ближайшее время надо будет действовать особенно энергичненько, ведь стоящие перед всеми нами задачи никто другой решать не станет, а помешать их решению точно попробует.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Судя по недавним высказываниям некоторых персонажей, Россию без атомного оружия уже не остановить, и это не шутка.
Нет, само собой, все совсем не радужно. Сентябрьская мобилизация всерьез испугала уйму народа, среди которого оказалась повышенная доля творческих личностей, айтишников и средне-мелких предпринимателей. А это, например, одномоментное падение платежеспособного спроса на жилую недвижимость на 20-25%. Оно-то, конечно, со временем восстановится, но в данный момент рынок волнуется.
Правда, на российском рынке арматуры это не слишком сказывается. Уже идущие проекты обеспечивают достаточно неплохой спрос. Цены на стальную продукцию, похоже, стабилизируются. По крайней мере, производители ограничились в октябре минимальным понижением, а металлотрейдерам приходится соответствовать.
Более серьезная засада заключается в том, что начал сказываться разрыв связей с западными поставщиками оборудования, комплектующих и запчастей к нему. Причем если крупные компании имеют различные возможности для ослабления остроты этой проблемы, то у малого и среднего бизнеса, не относящегося к приоритетным отраслям, особых вариантов пока нет. Впрочем, если есть насущные потребности, рынок рано или поздно сориентируется и предложит решения.
Еще более высокую эффективность демонстрирует соединение сил государства и частного бизнеса. Это, в частности, показал прошедший 5 октября Национальный промышленный конгресс, собравший очень много интересного народа, представляющего правительство и прочие властные структуры, а также государственные и частные компании.
Основное впечатление от этого мероприятия заключается, пожалуй, в том, что санкции, создавшие реальные угрозы и риски для российской экономики, заставили всех очень быстро шевелиться. Как, в частности, напомнил Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, в 1944 г. более 60% техники на фронте было создано и запущено в производство уже после 22 июня 1941 г. В наших же нынешних условиях строительство среднего предприятия занимает почти три года, а еще год требуется, чтобы пройти аккредитацию, сертификацию, лицензирование и прочие процедуры.
В связи с этим Москва и воспринявшая ее передовой опыт Московская область всерьез взялись за работу над ускорением бизнес-процессов. Государство (если не считать крупных госкорпораций) не собирается само заниматься предпринимательством, но готово создавать ему условия.
Для тех, кто хочет и может сделать что-то нужное, предлагаются деньги — длинные и дешевые, об отсутствии которых столько лет вздыхали многие эксперты, готовые площади в строящихся индустриальных парках, земельные участки с арендной платой в 1 рубль в год в течение трех лет со сроком отведения в 20 суток, СПИКи, СЗПК и многое другое. Как отметил экс-глава Ассоциации кластеров и технопарков РФ Андрей Шпиленко, возглавивший теперь Корпорацию развития Донбасса, для каждого инвестиционного проекта может и должна применяться своя уникальная комбинация из льгот и мер поддержки из широкого перечня.
Нет, национальная птица у нас — это все-таки жареный петух. Пока он лежит себе спокойно на блюде, народ много говорит об имеющихся проблемах и недостатках, но реально заняться их устранением — руки не доходят. Но стоит ему вскочить и начать клеваться, и многие завалы начинают исчезать, а животрепещущие вопросы — решаться.
Кризис очень здорово прочищает мозги и учит прагматичности. Финансирование проектов в промышленности идет уже полным ходом. Как отметил один из спикеров на Национальном промышленном конгрессе, сегодня ФРП за одно заседание может распределить больше средств, чем раньше выдавалось за год. С начала текущего года прокредитовано более тысячи проектов, суммы исчисляются сотнями миллиардов рублей. При этом в ближайшее время должна состояться новая докапитализация.
Разрешен ранее казавшийся непреодолимым парадокс с развитием наукоемкого импортозамещающего производства. Российские компании не могли запускать такие проекты, так как не имели заказов от потенциальных покупателей. А те не размещали заказов, потому что не были уверены, что получат требуемое в срок и с оптимальным соотношением цены и качества. Теперь производители могут рассчитывать на гарантии сбыта, а потребители — на субсидирование закупок отечественной продукции.
Более того, на Конгрессе было во всеуслышание заявлено, что когда из десяти подобных проектов удается три, — это совершенно нормально. Поставлена задача по снятию инновационных рисков с самих «старт-аперов» и финансирующих их банков за счет предоставления безотзывных государственных гарантий. И есть уверенность в том, что и эта проблема будет со временем решена.
Благодаря очищающему влиянию кризиса поставлены под вопрос многие постулаты, которые ранее считались незыблемыми. Да, если налаживать производство российских комплектующих, они будут на 30% дороже условных китайских. Но зато свои, что сейчас важнее. В ближайшие месяцы могут быть приняты важные поправки в законы 44-ФЗ и 223-ФЗ. Меняется идеология самого процесса закупок. Если ранее во главу угла ставились дешевизна и соблюдение «рыночных принципов конкуренции», то теперь самым важным становится оперативное получение результата с требуемым качеством.
Вообще, за последние месяцы на приоритетных направлениях сделано много. Определены первоочередные проблемы и приняты по ним решения. Выделено финансирование. Изменена, где это нужно, нормативно-правовая база. Началось строительство предприятий. В целом создана и работает система информационного обмена, которая позволяет компаниям, с одной стороны, подавать заявки на импортозамещающую продукцию, а с другой, предлагать свои услуги по производству чего-то остро необходимого. Многие крупные корпорации в основном определились с тем, выпуск чего именно надо налаживать в России, что можно будет получать по параллельному импорту либо из дружественных стран, а для чего уже удалось найти аналоги.
Самые большие трудности, конечно, кадровые. Не хватает квалифицированных специалистов, хотя в некоторых случаях удается привлекать зарубежных. Изменения в нормативно-правовом регулировании зачастую сталкиваются с препятствиями, когда у некоторых порядков, объективно вредных для страны, есть конкретные выгодоприобретатели. Кроме того, есть направления, которые не вошли в число приоритетных. До них у государства не дошли руки и в ближайшее время не дойдут.
Тем не менее, работа идет полным ходом. Конкретные результаты уже есть — например, очевидный рост в строительном секторе, постепенное восстановление автопрома силами «АвтоВАЗа», сельскохозяйственного машиностроения, авиастроения. Еще больше мы увидим в 2023-2024 гг., если все пойдет нормально и без новых катаклизмов.
По сравнению со всем этим бурлением на рынке стали — тишь да гладь. Причем это характерно как для России, так и для мира в целом. На отечественном рынке продолжает медленно идти вверх листовой прокат, что обусловлено как устойчивым спросом, особенно, на оцинкованную сталь, так и намеченными на четвертый квартал ремонтами на меткомбинатах. Арматура и фасонный прокат, пожалуй, больше снижаться не станут.
За рубежом цены относительно ровные, спрос в большинстве регионов низкий. Российский экспорт по объему находится на дне или близко к тому. Но производители активно ищут новые направления сбыта. На четвертый квартал прогнозируется дальнейшее снижение выпуска при отсутствии значительных ценовых колебаний.
В Европе интенсивно пытаются смягчить энергетические шоки деньгами. Так, Германия объявила о выделении 200 млрд. евро на субсидирование цен на газ и электроэнергию. В других странах разрабатывают свои планы введения ценовых потолков. Основных проблем здесь две. Во-первых, все эти меры разгоняют инфляцию, которая в Европе и так самая высокая с 70-х гг. или вообще со времен Второй Мировой войны. Во-вторых, некоторые страны этой зимой столкнутся с физической нехваткой газа, а возможно, и электроэнергии, против чего окажутся бессильными любые деньги.
В общем, в ближайшие месяцы на мировых финансовых, энергетических и товарных рынках могут произойти большие перемены. Впрочем, как показывает опыт, в некоторых случаях получение хорошего пенделя от объективной реальности становится прямо чудодейственным, волшебным средством.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

После объявления частичной мобилизации, подрыва «Северных потоков», референдумов и вхождения новых территорий в состав России ситуация в мире стала принципиально непредсказуемой. Никаких ограничений больше нет. Возможно все, что является вероятным и реализуемым.
Поэтому говорить сегодня есть смысл только о текущем моменте и ближайших перспективах — до тех пор, пока новые события не изменят снова обстановку. Рубикон безвозвратно перейден, а дальше будет видно.
Для российской экономики ключевыми вопросами на ближайшее будущее, вероятно, станут степень централизации, уровень и широта государственного управления важнейшими отраслями. Повышение ответственности за срыв гособоронзаказа требует и расширения возможностей руководителей предприятий.
С одной стороны, излишними и мешающими делу становятся всевозможные тендеры, согласования, отчетности и прочие административные процедуры, отнимающие кучу времени и сил. Совсем другие задачи должны встать теперь перед ФАС, Налоговой и другими подобными надзорно-контрольными структурами. С другой стороны, перестают работать и многие рыночные инструменты.
В принципе, перестройка российской экономики в сторону большей централизации, государственного планирования и финансирования приоритетных проектов, соединения государственного начала с частным предпринимательством началась еще в марте. Теперь эти процессы, вероятно, ускорятся. Но конкретные формы еще до конца не определены. Здесь возможен весьма широкий разброс вариантов. Не исключено, что в различных отраслях все будет происходить сильно по-разному.
Российская металлургия и металлоторговля — отрасли полностью рыночные, долей государства в них нет. Сейчас в процессе подготовки находится новая стратегия развития этого сектора. Широкой национализации в ней, скорее всего, не будет, но в ближайшие годы металлургам, скорее всего, придется менять свою бизнес-модель, причем очень сильно.
Прежняя экспортная направленность российских производителей металлопродукции в данный момент стала сильно затрудненной. Санкционное давление западных стран на внешние связи российских компаний усиливается. Деятельность в обход санкций преследуется. Для банков российский бизнес все глубже уходит в «черные списки». Разработанные в последние месяцы обходные схемы могут оказаться под угрозой. Могут усилиться трудности, связанные с использованием западного оборудования.
Одним из аспектов новой тенденции стало укрепление рубля. В последний сентябрьский день в ходе торгов курс одно время поднимался до менее 54 руб. за доллар, а евро оказывалось ниже 52 руб. Отчасти это связано с тем, что данные валюты оказываются все менее востребованными для российских компаний. Чем больше новых ограничений, тем меньше можно купить чего-либо за западные валюты.
Летом аналогичная ситуация завершилась коррекцией курса, в чем немаловажную роль сыграл частичный прорыв торговой блокады через различные обходные маневры. Сейчас обстановка, похоже, усложнилась. Все более настоятельной необходимостью становится создание новой международной финансовой системы, отделенной от западной и неподвластной западным санкциям. Иначе «хозяева денег», имеющие возможность диктовать свою волю почти всему миру, отправят российскую экономику в состояние автаркии.
Основная проблема здесь заключается в том, что альтернативная система необходима России, но потенциальные партнеры до последнего времени не видели столь острой ее нужности для себя. Но и здесь происходят перемены. Запад, можно сказать, сам рубит под собой сук.
В США повышение базовых процентных ставок в конце сентября резко повысило риск экономического кризиса. Одним из его проявлений стало падение цен на горячекатаный прокат примерно на $70 за т в течение третьей декады прошедшего месяца.
В Европе попытки местных металлургических компаний поднять котировки на стальную продукцию предпринимались в течение всего сентября, но так и не дали результата. В Германии горячекатаный прокат вообще провалился до самого низкого уровня с начала февраля 2021 г. В регионе просто нет спроса. Во второй половине сентября европейские компании даже практически прекратили закупки полуфабрикатов и сортового проката в странах Восточной Азии.
Европейские промышленники ждут, что правительства стран региона и Европейская комиссия снизят им цены на газ и тарифы на электроэнергию. При нынешнем их уровне энергоемкие отрасли работать не могут.
И надо сказать, европейские металлурги дождались принятия этих мер. Еврокомиссия представила свои рекомендации, а в ряде стран Европы разработали свои механизмы. Основа их заключается в субсидировании тарифов. Правительства будут забирать деньги у слишком много зарабатывающих энергокомпаний и отдавать их конечным потребителям электроэнергии. Вариант — установить предельные цены на газ и доплачивать разницу между этими «потолками» и биржевыми котировками. Еще один вариант — налоговые кредиты для энергоемких отраслей и прочие формы покрытия избыточных энергозатрат из госбюджетов.
Такими мерами действительно удастся облегчить положение тех же металлургов. В Италии, например, где предложена схема налоговых кредитов, простаивавшие ранее производители стали в октябре намерены возобновить выпуск. Однако подобные методы ведут к разгону инфляции. Повторится ситуация 2020-2021 гг., когда антиковидные программы финансировались напечатанными деньгами.
В последние месяцы цены на стальную продукцию на мировом рынке медленно снижаются. В конце сентября свой вклад в этот процесс внесли китайские компании, понизившие экспортные котировки благодаря подешевевшему юаню. Сейчас Китай ушел на каникулы, отмечая очередную годовщину основания КНР. Затем 16 октября начнется XX съезд Коммунистической Партии Китая. До его завершения в стране вряд ли будут происходить какие-либо широкомасштабные колебания цен на черные металлы.
Если западные страны примут решение о выходе из энергетического и спровоцированного им экономического кризиса за счет «печатного станка», мы снова увидим резкий рост цен на все виды ресурсов. Причем происходить он будет в условиях крайнего усиления антироссийской торговой блокады. В случае реализации такого сценария у всех незападных стран появится насущная необходимость в прекращении «импорта инфляции». Некоторые государства уже сейчас испытывают проблемы с критическим импортом, а будет еще хуже.
Альтернативой новому инфляционному скачку станет экономический кризис, в эпицентре которого окажется Европа. Решить проблему сверхвысоких цен на газ и электроэнергию можно еще и путем сокращения их потребления. Причем в отношении газа без этого не обойтись. У европейских стран просто нет физических возможностей (терминалов по приему сжиженного газа и газопроводов), чтобы компенсировать выпадание российского импорта. А вероятность его полного обнуления в ближайшее время становится вполне зримой.
Приходится признать, что США выиграли «генеральное сражение» за Европу. Теперь у них есть все возможности для того чтобы разрушить и ограбить ее экономику. Российская ставка на взаимовыгодное экономическое сотрудничество не сыграла. Ключевым стал «человеческий фактор». Европейцы сами с флагами и барабанным боем привели к власти своих собственных могильщиков. Как конкретно будет происходить процесс, мы увидим в ближайшие полтора года. Наверное, не все решится этой зимой, что-то останется и на долю следующей.
Так или иначе, в октябре, пожалуй, определится, что будет ждать мировой рынок стали в ближайшем будущем. Один вариант — новый подъем на инфляционной накачке, второй (пожалуй, более вероятный) — дальнейшая деградация спроса при медленном снижении цен и сокращении объемов производства и экспортных поставок стальной продукции.
Российский рынок стали начинает четвертый квартал тоже в неоднозначной позиции. Металлургические комбинаты наметили на октябрь серию ремонтов оборудования. Ограничение объемов предложения способствует некоторому повышению цен на листовой прокат. Арматура, наоборот, оказалась в избытке, поэтому и дешевеет. Впрочем, не так уж много времени осталось до завершения строительного сезона.
Сегодня трудно говорить вообще о каком-либо будущем. Мир похож на на атомный реактор с выдвинутыми стержнями контроля, который может внезапным скачком пойти вразнос. Но если всем нам удастся пережить приближающуюся зиму, то 2023 г. в России имеет хорошие шансы стать Годом строителя. Именно эта отрасль станет основным локомотивом экономики, потому как больше пока некому. А различных программ поддержки строительства принято много. Лишь бы они сохранили свою актуальность весной будущего года.
В любом случае, теперь будет меняться многое, и меняться быстро. Мир действительно вступил в период революционных трансформаций. Остается только фиксировать эти изменения и оценивать хотя бы ближайшие их последствия.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Говорят, что у каждой заслуживающей внимание проблемы есть решение — простое, очевидное, изящное и… неправильное. Но мы, как известно, не ищем легких путей. Обманчивой простоте легких решений предпочитаем тяжесть сложных. Однако как порой это трудно…
Прошло больше полугода, как началось то самое «интересное» время, которое мы имеем сомнительное удовольствие проживать и принимать в ощущениях. Впереди по-прежнему полный туман. Ясно в нем только одно: скоро ничего не кончится. Не исключено, что какие-то первые промежуточные итоги придется подводить не раньше весны. И не факт, что следующей.
Как говорится, нас никто не спрашивал, но придется побыть стайерами. И оглянуться на оставшуюся позади дистанцию. Вполне возможно, что самые тяжелые препятствия российская экономика уже преодолела. Во всяком случае, отчетливое оживление в строительном секторе, прочувствованное металлургами и металлотрейдерами, и снижение темпов спада промышленного производства до 0,5% в июле об этом свидетельствуют.
Что еще можно записать в успехи и достижения? Стабилизировался курс рубля, так сильно помотавший всем нервы весной. Уже больше месяца он не выходит за пределы интервала 58-62 руб. за доллар, а обычно пребывает где-то в районе 60 руб. По крайней мере, на его колебания уже давно никто не обращает особого внимания.
Теперь на валютном рынке наступает следующая фаза. Вот если курс продержится на этом уровне хотя бы год, можно будет говорить о какой-то стабильности. Впрочем, это не только от нас зависит. Судя по всему, осень нас ждет бурная, а зима — трудная. Всякое может случиться.
Исход западных компаний с российского рынка состоялся. На этот счет еще поступают запоздавшие заявления, но в целом все уже определилось. Кто бежал, тот бежал. Кто сохранил присутствие, «хоть тушкой или чучелом», тот, скорее всего, уже не уйдет. Одним словом, последствия наступили, идет работа по приспособлению к ним.
Все это, конечно, очень не просто, но ведь мы делаем ставку на сложные решения, помните? Определены ключевые отрасли промышленности, для которых разработаны планы дальнейших действий силами правительства, госкорпораций и частных компаний. Начата реализация проектов по замещению критического западного импорта, определены источники госфинансирования, производителям обеспечивается гарантированный сбыт.
Это долго и не просто, особенно, учитывая российскую бюрократию и массу регулятивных запретов, предписаний и ограничений, которые сильно сдерживают и усложняют выполнение конкретных решений. Но… улита едет, когда-то будет. В 2023-2024-2025 гг. мы определенно увидим результаты в виде локализованного производства самолетов, судов, автомобилей, электроники и, очевидно, еще много чего другого.
Возможно, в 2023 г. постепенно заработают и меры поддержки строительного сектора, о которых говорилось еще в мае-июне. Вообще, идей у правительства и региональных властей много. Зачастую, идей хороших. Но вот реальное исполнение происходит медленно. Впрочем, и времена сейчас такие. Как известно, для любой войны, даже если это СВО, нужны деньги, деньги и еще раз деньги. А если чего-то в одном месте прибыло, то в других местах окажется недостаточно.
Падение инвестиционной активности за пределами ключевых секторов, пользующихся приоритетной государственной поддержкой, это всерьез и надолго. И основная проблема здесь даже не в том, что «денег нет», а в неопределенности. И торговой блокаде, само собой. Не абсолютной, конечно, но требующей немалых усилий для ее преодоления.
Вот где остаются большие сложности, так это во внешней торговле. Экспорт нефти упал незначительно, но со многими другим товарами проблем хватает. Угроза вторичных санкций оказалась весьма действенной. Во многих формально нейтральных или даже потенциально дружественных странах немалая часть экономики оказалась в западной сфере влияния. Поэтому контакты с «токсичной» Россией минимизируются.
Достигнуты определенные успехи в «дедолларизации» внешней торговли. Так, например, значительная часть угля, поставляемого российскими компаниями в Индию, оплачивается в юанях, гонконгских долларах и дирхамах ОАЭ. Активно идут операции с Турцией и через Турцию.
Однако создание альтернативной международной платежной системы с опорой на валюты стран БРИКС и других «новых рыночных» государств оказалось весьма сложным делом. Во многом потому, что для остальных потенциальных участников этой схемы ее преимущества пока не очевидны. Все эти страны больше торгуют с Евросоюзом и США, чем друг с другом. Хотя работа, по-видимому, идет. А если в новой международной системе будет предусмотрен свой механизм определения цен на энергоносители и другие ресурсы, никак не привязанный к котировкам западных бирж, это может оказаться весьма интересно.
Для российского рынка стали август выдался на удивление спокойным. Спрос был не выдающимся, но вполне неплохим, а цены — относительно стабильными. Правда, на споте наблюдались и понижения, в частности, в секторах арматуры, фасонного проката, сварных труб. Основная причина — избыток предложения. Металлургические компании воспользовались возможностью расширить производство, но слегка перегнули палку.
В сентябре комбинаты хотят немного приподнять котировки на листовой прокат и арматуру, объясняя свои действия хорошей загрузкой мощностей и увеличением затрат, например, на ставший снова дефицитным металлолом. Пожалуй, это повышение может быть принято рынком, однако в четвертом квартале, когда пойдет вниз видимое потребление, может произойти небольшое понижение.
Экспортные котировки российских компаний тоже изменились мало, лишь слегка уменьшились. Но спрос на их продукцию просел весьма серьезно. Упали поставки в Турцию, чья экономика переживает сейчас не лучшие времена, Египет испытывает острый дефицит валюты, отгрузка крупных партий горячекатаного проката в Индию пока так и осталась эпизодом…
Правда, падение спроса на стальную продукцию — это сейчас всеобщая проблема. На это жалуются металлургические компании из Китая, Индии, Турции, Японии, Вьетнама и других стран. Мировая экономика входит в рецессию, поэтому потребность в прокате сужается. Скорее всего, металлургам осенью и зимой придется и дальше сокращать объемы выпуска.
В то же время, цены на стальную продукцию идут на спад достаточно медленно. Сейчас на экономику одновременно действуют и дефляционные (та же рецессия), и инфляционные факторы. К последним относится, прежде всего, рост затрат на энергию и энергоносители.
Нефть в августе подешевела, там угроза снижения спроса оказалась более действенным фактором, чем ограниченный объем предложения. Но природный газ в конце месяца превысил $2100 за 1 тыс. куб. м в Восточной Азии и $3000 в Западной Европе. На такую высоту котировки уже поднимались в начале марта, но тогда это был кратковременный скачок, а сейчас — тенденция.
Электроэнергия в Германии и Франции только за последнюю неделю августа взлетела до соответственно более 800 и более 1000 евро за МВт-ч по контрактам «на год вперед». И это напрямую затрагивает промышленность и весь коммерческий сектор, а вскоре подорожание распространится и на население.
В ряде стран пытаются частично компенсировать этот рост затрат, но проблема упирается в дефицит ресурсов. Заместить российский газ европейцам просто нечем. В последние месяцы они на десятки процентов увеличили импорт сжиженного природного газа, но для этого сократили закупки Китай, страны Индостана и Латинской Америки, т. е. игра идет с нулевой суммой. А новые крупные заводы по сжижению газа вступят в строй не ранее 2025-2026 гг.
То же самое с электроэнергией. В последние несколько недель в Западной Европе стоит небывалая жара. А в такую погоду ветер слабый, так что европейская ветроэнергетика работает не более чем на 5-10% своей мощности. Во Франции возникли большие проблемы на атомных станциях. Уголь европейцы завозят из всего мира вплоть до Австралии и Танзании, поскольку отказались с 10 августа от российского. Но обмелевшие во время засухи реки ограничивают его поставки на электростанции.
Осенью некоторые из этих проблем разрешатся сами собой, но зато возрастет потребление энергии. И для этой проблемы подходят только сложные решения. А это значит — дорого и долго. А учитывая и сохраняющую актуальность «климатическую повестку», еще и с сомнительными шансами на успех.
Конечно, все страдания европейского населения вряд ли приведут к серьезным политическим изменениям. Холодильник теоретически может победить телевизор, но у него нет шансов, если к телевизору добавятся интернет, соцсети и все прочее информационное пространство. Вообще, каждый человек создает свою субъективную социальную реальность и в ней живет. А если факты в нее не вписываются, то они просто игнорируются.
По этой причине не стоит радоваться тому, что у соседа корова сдохла или там газ отключили. Все равно, на его поведение это не повлияет. В обозримом будущем следует сосредоточиться, прежде всего, на собственных ощущениях и потребностях и просто делать то, что нужно. Даже если речь идет о сложных решениях и длительных процессах.
Несмотря на все нынешние трудности, мы по-прежнему приглашаем получить новую информацию, встретиться с коллегами и деловыми партнерами, обменяться мнениями на выставках и конференциях, которые пройдут в 2022 г. В Санкт-Петербурге 8-9 сентября пройдет конференция «Сервисные металлоцентры России», а 22-23 сентября в Волгограде будет проведена конференция «Проволока — Крепеж».
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Лето, ах, лето!.. Пора отпусков и отдыха. Жара и грозы, дачи и курорты. И прелюдия к тому, что придет осенью. И зимой, которая всегда близко…
Для российского рынка стали конец июля стал временем стабилизации. Цены на стальную продукцию перестали падать, а в некоторых сегментах немного повысились. В августе, если не произойдет каких-либо резких изменений в экономике и политике, их уровень должен быть относительно стабильным. Падать незачем, а расти некуда.
Стабилизация произошла благодаря сокращению объемов производства. По данным Росстата, выпуск сортового проката в июне упал на 18,5% по сравнению с тем же месяцем 2021 г., а горячекатаного листового проката — на 25,1%. Это дало возможность убрать с рынка большую часть излишков, которые ранее надо было срочно пристраивать любой ценой.
Не исключено, что металлургам и в третьем квартале придется корректировать объемы производства в сторону уменьшения. Но именно корректировать, не больше. Санкции уже полностью проявили свою суть, вовсю идут процессы приспособления к новым реалиям. Отрасль уже где-то возле дна, а может быть, даже начинает с его выбираться.
Тот же самый Росстат показывает, что спад в российской экономике во втором квартале усиливался. Темпы роста ВВП, составлявшие 2% в марте, провалились до минус 2,5% в апреле, минус 3,4% в мае и минус 4,6% в июне. Учитывая беспрецедентные масштабы обрушившихся на страну санкций, результат в целом неплохой. По крайней мере, обвала не произошло.
Рубль, правда, опять начал снижаться, но в дозированных объемах. К тому же, для экспортеров, включая металлургов, это только в плюс. Цены на металл и нефть мировом рынке опускаются, но рублевые доходы, как минимум, остаются относительно постоянными.
Самый глубокий провал в российской экономике из крупных секторов показало автомобилестроение — падение на 62,2% в июне по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и почти на 40% по итогам первого полугодия. Расплата за то, что 15-20 лет тому назад пошли по легкому пути — не стали возрождать свою конструкторскую школу и свое производство, а понадеялись на иностранных инвесторов. Хотя какие были тогда альтернативы?.. Да и пока мировая экономика была реально глобальной, это вполне работало.
Впрочем, крайней точкой спада в российском автопроме был май. В июне и июле в этой отрасли что-то начало шевелиться. Впереди, конечно, очень долгий путь, но он сулит достаточно солидные «плюшки». При самых удачных раскладах за несколько лет можно будет, наконец, поднять локализацию производства автокомпонентов.
Причем это относится не только к автопрому. Некоторые компании в последние месяцы занимаются просто лихорадочной деятельностью по окучиванию новых ниш. Иностранцы добровольно освободили часть рынка — это сколько же возможностей! Опять же, хорошие активы можно выкупить за бесценок.
Понятно, что торговая и сервисная блокада — вещь крайне неприятная. Эпопея с турбинами для компрессорной станции «Газпрома» на «Северном потоке-1» это демонстрирует. А сколько таких случаев просто не попало в СМИ? Ближайшие месяцы — осень, зима — станут испытанием для многих. Тогда точно и выяснится, кто чего успел импортозаместить. Отмотать назад уже ничего нельзя, надо идти дальше, к пока туманному и невообразимому будущему.
Еще одна знаковая точка спада в российской экономике — добыча природного газа. В июне она упала на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. По итогам первого полугодия снижение составило 6,6%.
Самое неприятное здесь — это необходимость консервации скважин и падение инвестиций в новые проекты. В том числе, и по той причине, что российский нефтегаз оказался зависимым от западных технологий, материалов, оборудования, программного обеспечения и т. д. В то же время, увеличиваются капиталовложения в газификацию российской провинции. Усиливаются стимулы для расширения производства продукции с более высокой добавленной стоимостью — например, удобрений и пластиков. Да и снижение добычи само по себе не так уж и плохо. Больше в запас останется, а он, как известно, карман не тянет.
Тем временем европейцы посовещались и решили, что вместо ослабления санкций против России (с теми же турбинами, например) лучше сократят потребление газа в период с 1 августа по 31 марта 2023 г. Закладывались сразу на 15%, но в результате получится что-то около 12-13% из-за многочисленных послаблений и ограничений. Характерно, что никаких милостей от природы… то есть, России, конечно… евровласти не ждут. Более того, сценарий с полным прекращением российских поставок находится в работе. Тогда ограничения газопотребления, ныне добровольные, станут обязательными.
Какие тут есть варианты? В энергетике — максимально возможно заменить газ углем и мазутом. При том, что Европа с 10 августа прекращает импорт российского угля, а к концу года планирует обнулить закупки нефти и нефтепродуктов, задача не самая тривиальная и точно дорогостоящая. Население призывают меньше греться и реже мыться, а за невыключенный после себя свет в туалете, не исключено, будут пороть.
Максимальный режим экономии предписан для промышленности. По оценкам Platts Analytics, она как раз сократит потребление газа на 15%. При его стоимости в пределах $1300-1500 за 1 тыс. куб. м во втором полугодии это произойдет, можно сказать, естественным путем. Правда, в странах Западной Европы правительства субсидируют газ и электроэнергию для важнейших потребителей, но в какой-то момент проблемой могут стать и сами физические поставки.
Европейские металлургические компании заранее анонсируют повышения цен на сортовой и листовой прокат на сентябрь, указывая на ожидаемый рост затрат. Но для этого им, вероятно, придется сильнее сокращать производство. Потребление осенью и зимой, вполне возможно, снова просядет.
Пока что западные металлурги не считают нынешний кризис долгосрочной тенденцией. И в Европе, и в США запускается много новых проектов по строительству новых и модернизации действующих производственных линий. Активно идет борьба с выбросами углекислого газа. Буквально вплоть до того, что каждый меткомбинат обязан обзавестись электропечами и освоить выпуск восстановленного железа по технологиям водородной металлургии.
Кстати, интересно, что по данным исследования Hydrogen Europe, декарбонизация среднего европейского меткомбината с помощью водорода потребует установки электролизеров общей мощностью 1,2-1,3 ГВт и солнечных либо ветряных станций на 3-5 ГВт. Это реально много, так как сейчас совокупные мощности глобального парка водородных электролизеров не дотягивают и до 0,5 ГВт, а на конец 2021 г. во всей Европе было установлено 187,5 ГВт ветряных и 160,3 ГВт солнечных мощностей. При этом стоимость данной трансформации оценивается почти в 7 млрд. евро, а рост себестоимости выплавки стали после ее завершения — в 125-205 евро за т.
В общем, есть такое подозрение, что кто-то слишком далеко ушел в воображаемый мир, и его придется выводить оттуда с помощью методик лечебного голодания и криотерапии. Впрочем, и у нас хватает строителей воздушных замков, которые имеют обыкновение громко лопаться при столкновении с реальной жизнью.
Любой кризис хорош тем, что выявляет и устраняет нежизнеспособные конструкции. Но плохо то, что эта процедура проводится на живой экономике и без наркоза. Государственная же поддержка — вещь избирательная, сложная в употреблении и долгая. Россия — это общество порядка и процедуры. В этой «уставщине» с неплохой обратной связью есть свои преимущества, но скорость исполнения решений к ним не относится.
Например, стройку обещают поддерживать много и разнообразно. Но на ближайшие месяцы в ней, по-видимому, будут только два источника роста — ипотека, которая немного воспрянула духом после понижения ставок, и восстановительные работы в Донбассе. Все остальное — это, в лучшем случае, 2023 г.
Спрос на стальную продукцию, в России, таким образом, находится в состоянии «новой нормальности» и в ближайшие месяцы будет изменяться, в основном, в силу действия сезонных факторов. С экспортом будет сложно в августе, так как спрос повсеместно низкий, а вот осень покажет, в каком состоянии реально находится мировая экономика. Зима же, скорее всего, измерит глубину кризиса.
Российские металлурги, кстати, нашли новых покупателей в Индии, оправив туда большие объемы листового проката. По данным зарубежных источников, оплата осуществлялась в юанях и эмиратских дирхамах. Это говорит… нет, буквально вопиет о необходимости внедрения нового механизма международных расчетов на основании либо мультивалютного механизма, как было в ЕС перед введением евро, либо новой валюты, например, в рамках БРИКС.
Впрочем, возможно, над этом уже работают. Как говорится, время покажет. И проверит.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Это лето выдалось жарким — и в переносном, и прямом значении слова. Рекордно высокие температуры в Западной Европе, в Китае, в некоторых регионах США оказывают прямое влияние на экономику, усиливая и обостряя энергетический кризис в Евросоюзе и примкнувшей к нему Британии, а также препятствуя возобновлению роста в Китае. При этом на значительной части Центральной и Южной России прошедшая неделя оказалась прохладной и дождливой.
Накал на российском рынке стальной продукции тоже несколько спал. Прекратилось длившееся с марта падение цен. Первой еще в начале июля развернулась в сторону роста арматура, а теперь произошла стабилизация в секторе листового проката. Некоторые поставщики сварных труб приступили к повышательной коррекции.
Правда, сильного и продолжительного подъема в ближайшем будущем, скорее всего, не произойдет. Спрос на прокат по-прежнему отстает от прошлогодних показателей. В политике и экономике сохраняется неопределенность. Еще далеки от решения проблемы с импортными материалами и комплектующими и обслуживанием импортного оборудования. Никуда не делся и дефицит финансовых средств у покупателей.
Тем не менее, обстановка меняется к лучшему. Центробанк РФ, понизивший ключевую ставку сразу на 1,5 п.п., до 8%, заодно изменил прогноз по ВВП. Теперь он ожидает спад не на 8-10%, а только на 4-6%. Причем, большая часть этого спада, скорее всего, уже состоялась.
Можно критиковать правительство за то, что очень много красивых слов о поддержке промышленности и строительства, о необходимости перехода от импортозамещения к опережающему развитию и о технологическом суверенитете порой слишком неторопливо переходят в реальные дела. Тем не менее, подготовительный период кое-где уже завершается.
Несмотря на все проблемы, в последнее время приходит все больше сообщений об освоении российскими компаниями новых видов продукции, о запуске новых производств и выделении средств на интересные промышленные проекты. Характерный пример новых веяний — анонсированный цех по производству бесшовных труб на «Уральской стали», оборудование для которого поставит Электростальский завод тяжелого машиностроения (ЭЗТМ).
Кстати, интересный нюанс. В США и Европе в последние месяцы участились сообщения о покупке металлургическими компаниями фирм — изготовителей металлопродукции, отстоящих дальше по производственной цепочке. Специализация приобретаемых производств может быть очень различной — от складских стеллажей и гаражных дверей до автокомпонентов.
В России такая вертикальная интеграция идет пока другими путями — от меткомбинатов к производству сварных труб или, в меньшей степени, металлоконструкций. Однако почему бы металлургам не стать немного ближе к машиностроению? Например, из российской отрасли автокомпонентов ушли многие западные компании, а образовавшийся вакуум все-равно должен быть кем-то заполнен. Тем более, что сотрудничество металлургов и автобилестроителей имеет давние традиции, а у производителей стали есть финансовые, кадровые и научные ресурсы, чтобы войти в новую отрасль.
В любом случае, для российских металлургов содействие росту внутреннего потребления стальной продукции становится ключевой задачей. С экспортом в последнее время дела складываются не слишком хорошо. Настолько не слишком, что основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин назвал его практически бессмысленным занятием. Причем, в отличие от других ведущих российских металлургических компаний НЛМК не под санкциями.
Проблемы, связанные с внешними рынками, делятся на несколько категорий. Одна из них — это замена потерянных направлений, прежде всего, в Европе. Здесь как раз срабатывают санкции, так как многие покупатели не хотят иметь дела с российскими поставщиками по политическим мотивам или боясь трудностей с расчетами и платежами.
Но как раз у этой проблемы могут быть долгосрочные решения. Так, российские металлурги уже экспортируют стальную продукцию в Индию с расчетами в юанях и рублях. К ним могут прибавиться рупии и эмиратские дирхамы, а если страны БРИКС дозреют, наконец, до общей резервной валюты, то можно будет вообще обойтись без долларов и евро.
Это, между прочим, позволит решить проблему «переукрепления» рубля. Основной причиной его роста является значительное превышение экспорта над импортом из-за санкций. Поэтому как рубль не опускай, он снова поднимается как стойкий Ванька-Встанька. Но при переходе от доллара и евро к иным валютам во внешней торговле положение изменится.
Пожалуй, наиболее серьезная трудность заключается в том, что мировая экономика вступает в кризис, поэтому существующие мощности по производству стальной продукции становятся избыточными. Сбросить за рубеж не востребованные внутри страны излишки все труднее. Наконец, все очень сильно усложнил спад в Китае.
Рост китайского ВВП во втором квартале составил всего 0,4%. При этом борьба с ковидом, который причинил национальной экономике так много неприятностей, продолжается с прежним пылом и жаром. Впрочем, возможно, у «нулевой толерантности» к ковиду, которой придерживаются китайские власти, есть свои причины. Мало ли, расслабишься, а тут запустят эпидемию чего-нибудь по-настоящему убойного. Но экономикой из-за этого приходится жертвовать.
Обвал в первой половине июля завершился на китайском рынке стали относительной стабильностью. Биржевые цены на арматуру и горячекатаный прокат установились где-то чуть выше отметки $500 за т без НДС. Китайские металлурги сокращают производство, так что можно рассчитывать, что ниже этого уровня котировки уже не упадут. Точно так же и китайский горячекатаный прокат не рухнет до $500 за т CFR Вьетнам, как недавно опасались некоторые участники рынка. Однако ниже $600 за т CFR он вполне продается, а полноценного восстановления, по-видимому, придется ждать не раньше осени, когда прекратятся дожди и спадет жара.
Впрочем, вопрос о том, что будет осенью и дальше, довольно интересный. Еврокомиссия поднимает огромный шум о грядущем отключении от российского газа и требует, чтобы все страны региона сократили потребление данного ресурса (не только российского, но вообще любого) на 15%, чему очень не рады промышленники. Ассоциация цветмета Eurometalux предупредила, что если цены на газ и тарифы на электроэнергию продолжат подниматься, то этой зимой Европа может лишиться половины мощностей по производству цинка и алюминия.
В то же время, в той же Европе с начала года анонсировано, наверное, рекордное за последние, как минимум, 15 лет количество новых проектов по строительству новых производственных линий и модернизации действующих. Все дружно строят новые электродуговые печи, стремясь к сокращению выбросов углекислого газа, и собираются внедрять водородную металлургию. То ли европейские металлурги считают все газово-энергетические страшилки кратковременными неприятностями, которые не помешают реализации долгосрочных планов развития, то ли поставщики оборудования таким образом компенсируют потерю российских заказов, то ли… мы чего-то не знаем.
Так или иначе, интересные (во всех смыслах) времена, безусловно, продолжаются. Сейчас стоит жаркое лето двадцать второго года, а какой тогда станет осень?!

День металлурга — это, конечно, большой праздник. Но в канун торжеств настроение у многих металлургических компаний было не самое радужное. Отрасль все-таки довольно сильно пострадала от торговой блокады, санкций и проблем в экономике России. По данным «Коммерсанта», в июне в убыток сработали все, особенно, на экспорте.
«Русская сталь» заявила, что в прошедшем месяце металлургические компании сократили производство стали на 20–50%, а себестоимость выросла на 50% вследствие увеличения доли постоянных затрат. Ассоциация ломозаготовителей «Руслом.ком» сообщает, что спрос на металлолом в июне уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а по итогам всего 2022 г. может оказаться на 30% меньше, чем годом ранее. НЛМК, впрочем, прогнозирует снижение выплавки стали «всего» на 15%, причем основное падение, очевидно, придется на вторую половину года.
Сложившаяся на данный момент обстановка действительно выглядит неприятной для металлургических компаний. На внутреннем рынке потребление существенно просело. Снижение льготной ставки ипотечного кредитования немного поддержало жилищное строительство, но по сравнению с прошлым годом по-прежнему наблюдается сильное отставание.
Из-за проблем с поставками оборудования и комплектующих из-за рубежа снизилось промышленное производство. Как сообщил Денис Мантуров, ставший теперь не только министром промышленности и торговли, но и вице-премьером, в этом году спад в обрабатывающих отраслях может составить порядка 6%, а выпуск автомобилей может упасть вдвое.
Но с самыми большими трудностями российские компании сталкиваются на внешних рынках. Июнь стал для них наиболее тяжелым месяцем из-за рекордного с 2015 г. укрепления рубля. Затем курс сбили более чем на 20% к большому облегчению металлургов, но в последнее время российская валюта опять идет вверх. Что поделать, ведь все факторы, способствующие повышению рубля, остаются в силе.
Безусловно, валютная проблема остается в зоне особого внимания. И решения для нее предлагаются, в том числе, достаточно экзотичные. Так, министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» заявил, что не будет возражать против бартера и даже пообещал «централизованные клиринговые решения».
Идея не такая уж бредовая, но для этого необходимо внести изменения в российское законодательство, поскольку в соответствии с нынешним бартерные сделки сопряжены с большой головной болью. В принципе, клиринговые расчеты — это вполне реально, но тут надо в первую очередь решать вопрос о ценах, чтобы, с одной стороны, уйти от мелочной регламентации, а с другой — не допустить искусственного занижения или завышения.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил идти другим путем, переходя на расчеты в национальных валютах с дружественными партнерами или на некую новую общую резервную валюту стран БРИКС.
Учитывая, что как раз на прошлой неделе Индия разрешила внешнеторговые расчеты в рупиях, а юань уже давно широко используется в сделках с китайскими компаниями, этот путь представляется более реалистичным. По крайней мере, в случае расширения за счет Аргентины, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и Египта БРИКС становится весьма солидной и представительной организацией, а если подтянуть к нему и страны ШОС, так вообще.
Так что не исключено, что через какое-то время российские компании будут требовать за свои экспортные товары рубли или какие-нибудь «золотые бриксы», а расчеты станут проводиться через новую платежную систему, никак не связанную с долларом и евро. Правда, это дело точно не одного дня, а может, и не одного года, а российским металлургам надо жить сейчас. И основных бед у них две, причем, это не дураки и дороги, а курс и цены.
С курсом, по-видимому, до введения в действие новых платежных инструментов ничего принципиально не изменится. Рубль будет повышаться, затем его станут резко опускать, а потом он снова будет продолжать рост, вызванный объективными обстоятельствами.
С ценами дела обстоят следующим образом. На российском рынке, похоже, начались долгожданное подорожание арматуры и переход к стабилизации в секторах листового проката и сварных труб. Во всяком случае, большинство участников рынка пришли к пониманию, что еще сильнее удешевлять стальную продукцию просто некуда, иначе так можно без штанов остаться.
Спрос в принципе есть, сокращаться он уже не будет, так что особых преград для этих действий нет. Однако существенный подъем все-таки не слишком вероятен, так как особого роста видимого потребления в ближайшем будущем тоже не предвидится. Разве что в достаточно отдаленной перспективе.
В то же время, экспортные котировки российских компаний, поднявшиеся благодаря удешевлению рубля и скачку в Турции, могут снова упасть. Слабым звеном мирового рынка на этот раз оказался Китай. Всего лишь за месяц с небольшим котировки на Шанхайской фьючерсной бирже рухнули на 22-25% и к середине июля опустились до самых низких отметок с сентября-октября 2020 г. И это, может быть, еще не крайняя точка спада.
Китай столкнулся со своим «идеальным штормом». Отчасти, это действительно влияние погоды. Первая половина лета характеризуется рекордной жарой и обильными дождями, вызвавшими наводнения в ряде провинций страны.
Климатический фактор добил и так депрессивную стройку. По данным Национального бюро статистики КНР, в первом полугодии инвестиции в недвижимость снизились на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6,8 трлн. юаней (чуть больше $1 трлн.). Для Китая, чья экономика сохраняет устойчивость, в основном, по принципу велосипеда, то есть, за счет непрерывного роста, такой спад выглядит весьма неблагоприятным сигналом. Наконец, в Китай вернулся (или никуда и не уходил) ковид. Новые вспышки в ряде провинций, объявления о локдаунах, тотальное тестирование в Шанхае…
В общем, участники национального рынка стали сделали неутешительный вывод о том, что с экономикой в ближайшее время будет неважно, что бы ни утверждали партия и правительство, объявившее о новых мерах стимулирования. До осени, когда завершится дождливый сезон, изменения к лучшему маловероятны.
Так как китайские компании до этого в целом наращивали производство, особенно, листового проката, началась паническая распродажа. Причем не только на внутреннем рынке, но и на экспорте. Стоимость китайского горячекатаного проката возобновила падение. Некоторые компании предлагают его менее чем по $600 за т FOB, а встречные предложения из Вьетнама поступали на прошлой неделе по $580 за т CFR.
Никуда не девались и проблемы западных стран. На биржах упало все, от фондовых индексов до нефти, когда руководство Федеральной резервной системы США объявило, что в целях борьбы с раскрутившейся инфляцией может вскоре поднять ставку на целый процентный пункт, чего не случалось с 70-х гг. прошлого века.
У европейцев — свои тараканы. Региональная пресса который день обсуждает, что будет, когда Россия окончательно отключит газ, а его стоимость между тем стабильно превышает $1800 за 1 тыс. куб. м. Кроме того, тамошний народ постоянно пугают приближающейся холодной и голодной зимой. Одним словом, рецессия выглядит неминуемой.
Поэтому есть серьезное опасение, что подъем цен на металлолом, прокат и заготовку в Турции быстро выдохнется. Одно утешает: скорее всего, котировки на всю эту продукцию будут снижаться достаточно медленно, примерно с той же скоростью, что и будет расти рубль.
Итак, если все суммировать, получается, что ближайшие месяцы у российских металлургов будут сложными. На внутреннем рынке можно рассчитывать, как минимум, на неухудшение обстановки, но с экспортом будет достаточно грустно.
Вопрос: что с этим делать? Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила принять некие «системные» меры поддержки металлургической отрасли, но затруднилась их сформулировать, перебросив мяч на сторону правительства. Правительство тем временем отменило акциз на жидкую сталь аж для шести компаний, из которых к металлургическим можно отнести только две. Остальным еще весной посоветовали ждать осени.
Вообще, что можно понимать под «системными мерами»? Дмитрий Мантуров рассказал в Госдуме, что Минпромторг с Минфином прорабатывают механизм долгосрочного заемного финансирования крупных промышленных проектов под госгарантии — то есть, легендарных «длинных дешевых денег» для российской промышленности. При этом во главу угла будет ставиться не рыночный подход, а обеспечение технологического суверенитета. Скорее всего, компаниям будут даваться задания по замещению того или иного критического импорта и предоставляться финансовые средства и прочая поддержка на реализацию этих планов.
Для металлургов основным направлением в рамках этой инициативы представляются спецстали, но это все-таки немножко не то. По-видимому, быстрого системного решения нынешних проблем металлургической отрасли просто не существует. В долгосрочном же плане это могут быть различные меры по расширению спроса на прокат в строительной отрасли, развитие «суверенной» российской промышленности, выстраивание нового внешнеторгового объединения в рамках расширенного БРИКС+, возможно, какие-либо новые направления, которые появятся в будущем.
В общем, металлургам надо пожелать себе на свой профессиональный праздник побольше спокойствия, стойкости и целеустремленности. И конечно, веры в то, что на дне ямы мы уже побывали, а теперь начали из нее выбираться.
Другие материалы о российском и мировом рынке стали читайте в разделе «Аналитика».
Несмотря на все нынешние трудности, мы по-прежнему приглашаем получить новую информацию, встретиться с коллегами и деловыми партнерами, обменяться мнениями на выставках и конференциях, которые пройдут в 2022 г. В Санкт-Петербурге 8-9 сентября пройдет конференция «Сервисные металлоцентры России», а 22-23 сентября в Волгограде будет проведена конференция «Проволока — Крепеж».
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Жизнь бьет ключом, и все по голове. Санкции где-то оказались пшиком, а где-то душат, как та анаконда. Металлурги увидели свет в конце туннеля, но это оказался лишь приближающийся паровоз. Надо упасть на пол и замереть, чтобы пропустить его над собой.
Минпромторг на прошлой неделе разослал в профильные ведомства проект постановления правительства, согласно которому само министерство, а также Минстрой, Минэнерго и региональные власти смогут регулировать наценку производителей и поставщиков стройматериалов, металлопроката и сырья для их выпуска.
Это называется — инерция мышления. Правительство продолжает бороться с повышением цен, не заметив, что обстановка коренным образом изменилась. Точно так же и в Индии местные власти объявили о введении экспортных пошлин на железную руду, чугун, углеродистый и нержавеющий прокат, упустив из виду, что цены на них падают уже два месяца, а объявленные ограничения могут привести к резкому сокращению объемов экспорта.
На самом деле, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, за первые две декады мая инфляция в России опустилась до минимальной отметки с 1999 г., а в середине месяца была и вовсе зафиксирована дефляция. Цены падают, и именно это больше всего беспокоит металлургов.
Стоимость некоторых видов стальной продукции в России упала глубже предыдущего дна в сентябре 2021 г. Так, арматура продается уже по 48 тыс. руб. за т с НДС, что соответствует первой половине декабря 2020 г. Дистрибьюторы и производители вынуждены регулярно пересматривать в сторону понижения котировки на все прочие виды сортового и листового проката, труб и метизов.
Ассоциация «Русская сталь» обратилась в правительство с призывом о помощи, указав, что металлургические компании несут убытки и вынуждены рассматривать возможность сокращения объемов производства. И то, и другое — чистая правда, по крайней мере, на момент обращения.
Санкции сильно ударили по российскому экспорту стальной продукции. Проблемы проведения платежей и осуществления физической доставки сохраняют актуальность. Металлурги вынуждены поставлять прокат и полуфабрикаты на ограниченное число рынков и по низким ценам. А укреплявшийся до недавнего времени рубль уменьшал их выручку. Доходило, в частности, до того, что средний уровень экспортного паритета для заготовки составлял немногим более 40 тыс. руб. за т FOB. А металлолом доставался заводам по 30 тыс. руб. за т без НДС.
На внутреннем рынке дела шли не лучше. Производители, конечно, умеренно сокращали объем выпуска, но предложение все равно сильно превышало спрос. Высокие процентные ставки, разрыв связей с западными торговыми партнерами, общая неопределенность обвалили инвестиционную активность. Потребительский рынок съежился из-за взлета цен в начале марта и их закрепления на новых уровнях. В правительстве так много совещаются и обсуждают меры поддержки различных секторов экономики, что их реальный запуск зачастую откладывается все дальше и дальше.
В общем, товар есть, денег нет — классический кризис перепроизводства, точнее, недопотребления. И быстро из него не выйти. Любая подобная ситуация подобна яме, куда сначала скользишь и падаешь, и только на дне получаешь возможность встать, отдышаться и начать карабкаться вверх. А бывает еще фатальная воронка, когда дна нет вообще, но это, будем надеяться, не наш случай.
Металлурги просили у правительства две вещи: снизить налоги, убрав, в частности, акциз на жидкую сталь и повышенную в прошлом году ставку НДПИ, и ослабить рубль, чтобы, наконец, поднялся экспортный паритет.
По первому вопросу им ответили, что существенных послаблений не будет. Как говорится, для войны нужны три вещи — деньги, деньги и деньги. А их откуда-то надо взять. Кроме того, большая часть сортамента российских металлургических компаний не проходит по статье замещения критического импорта. Есть отрасли, где дела обстоят гораздо хуже и где действительно нужна срочная финансовая и организационная поддержка от государства.
С курсом рубля получилось интересно. Центробанк РФ понизил ключевую ставку от 14 до 11%. Кроме того, были ослаблены или отменены ряд валютных ограничений. В совокупности это и вызвало резкое падение рубля от 56 до 66 руб. за доллар.
Вообще, в таких скачках нет решительно ничего хорошего. Впрочем, чем меньше ограничений, тем курс реалистичнее. Кроме того, продолжают действовать основные факторы, способствующие укреплению российской валюты. Прежде всего, это схема с продажей газа за рубли, а также низкий объем импорта, сужающий потребность в долларах и евро, и закрытие каналов для вывоза капитала.
Тем не менее, российские металлурги неприкрыто радуются таким изменениям. К тому же, на внешних рынках несколько улучшилась обстановка. Индия в настоящее время является одним из крупнейших поставщиков стальной продукции на мировой рынок, а введение экспортных пошлин может привести к заметному снижению продаж. Причем если в России в 2021 г. подобные меры вводились с четким указанием сроков, то в Индии нет вообще никаких временных ориентиров. Так что, их и отменить могут в любой момент, если что.
Однако пока что металлурги по всему миру используют индийский казус как повод остановить падение цен и слегка их приподнять. И шансы на это у них вполне даже неплохие. Хотя на существенный и продолжительный рост рассчитывать не приходится. Кризис в мировой экономике продолжает углубляться. Причем всякие «ягодки», как и положено ягодкам, созреют ближе к осени.
На российском рынке дела пока идут туго. И никакие индийские пошлины здесь не помогут. Несоответствие между спросом и предложением приняло фундаментальный характер. Излишки такого масштаба сами собой не рассосутся.
Дефляция — это в общем очень нехороший признак. Снижение цен сигнализирует, в первую очередь, об отсутствии нормального сбыта. Металлургические компании при этом осознают, что без существенного сокращения производства в ближайшие месяцы им, скорее всего, не обойтись. Основные надежды возлагаются на то, что стоимость стальной продукции все-таки не упадет слишком сильно. В конце концов, разрушительная ценовая конкуренция не нужна решительно никому. Но для этого надо, чтобы кто-то первым сказал «Хватит!», а остальные его поддержали. А здесь, как правило, нужна какая-либо реальная опора в виде повышения покупательской активности.
Как совершенно правильно заявил министр экономического развития Максим Решетников, российская экономика переживает сейчас кризис спроса, когда население и предприятия тратят недостаточно денег. Однако правильно поставленный диагноз — только половина дела. Чтобы вылечить больного, т. е., преодолеть этот кризис, нужны правильные лекарства.
Самое простое, лежащее на поверхности решение, — уменьшить издержки населения и предприятий, чтобы у них оставалось больше денег на потребление и инвестиции. Увы, оно совершенно не реально. В экономике все очень сильно переплетено и взаимосвязано. Нет такой ниточки, на которую можно было бы потянуть и сделать всем хорошо. Ближе всего к этому подходят тарифы естественных монополий — например, РЖД. Но в повышении цен на перевозки велика инвестиционная составляющая. Если снизить расходы грузоотправителей, кто тогда будет финансировать расширение железнодорожной сети на востоке и другие проекты?
На самом деле, решить эту проблему можно. Но для этого Россия должна представлять собой государство-корпорацию, где все действует в рамках единой стратегии и возможно перекрестное финансирование и субсидирование. Однако реализовать такую модель не удалось даже Советскому Союзу, а сейчас… лучше и не пытаться. Главная беда всех этих «идеальных схем» заключается в том, что они не учитывают человеческий фактор, а кадры, как некогда отметил один мудрый государственный деятель, решают все.
В США в 80-е гг. ХХ века вышли из кризиса спроса, задействовав кредитное плечо. Правда, как оказалось, эта мера работает только на короткой дистанции. В наших условиях быстрое снижение ключевой ставки до 2-3-4% — это, пожалуй, чересчур экзотично. Да и банковская система не умеет и не будет работать с большими объемами дешевых кредитов.
Могут быть еще варианты с ослаблением налогового и валютного контроля над российскими компаниями, что, в частности, даст им больше свободы с понижением (именно понижением) цен. Но это следует сразу назвать утопией и всерьез не рассматривать.
Поэтому единственным источником денег для экономики, способным вывести ее из кризиса спроса, у нас является государство. То есть, ему надо побыстрее заканчивать с совещаниями и, как говорится, прыгать — запускать новые проекты, раздавать компаниям заказы и открывать финансирование. Движение в одном из таких направлений уже начато. Это восстановление Донбасса, где до холодов надо будет осуществить просто чудовищный объем строительных и других работ.
Вторым напрашивается широкомасштабное импортозамещение в промышленности, но здесь все не так просто. Деньги сами по себе не все решают. Нужны люди и ресурсы. Нужно выстраивание приоритетов — что надо делать в первую очередь, а что можно и прикупить из-под полы. Так что, требуется серьезная подготовка и, конечно, неусыпный контроль и учет. И хотя это замедляет процесс, но, по крайней мере, представляет собой привычное зло.
Скажем так, свет в туннеле через какое-то время должен появиться. Но произойдет это далеко не так скоро, как хотелось бы. Пока что задача на ближайшее будущее — это найти повод, чтобы остановить всеобщее ценовое падение.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

В прошедшую неделю на российском рынке стали состоялось немало важных событий. Прежде всего, президент поручил до 1 июня обновить стратегию развития металлургии в РФ, а также до этого срока принять меры для снижения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.
Второе поручение в данный момент выглядит излишним. Стоимость стальной продукции в России и так падает. По сравнению с пиком в начале марта арматура подешевела на споте более чем на треть, а листовой прокат – примерно на 20%.
Причем, по мнению всех специалистов, это понижение будет продолжаться. На конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт», которая состоялась в Челябинске 19-20 мая, некоторые участники прогнозировали удешевление арматуры и сварных труб до 45-50 тыс. руб. за т с НДС.
Текущая ситуация крайне неблагоприятна для металлургов. Почти треть российского экспорта стали в 2021 г. (около 10 млн. т) пришлась на недружественные страны. К настоящему времени поставки на этих направлениях сократились до минимума. Но и многие другие государства приостановили закупки российского проката и полуфабрикатов.
Это обусловлено наличием серьезных проблем с транспортировкой и платежами. Внешняя торговля и финансовый сектор – это те области, где антироссийские санкции продемонстрировали наибольшую эффективность. Сделки в целом идут, но с большими трудностями. Нет и в ближайшее время не будет системных решений, которые позволили бы разблокировать хотя бы часть импорта и неэнергетического экспорта.
Основные покупатели российской стальной продукции в Турции, Китае, некоторых странах Ближнего Востока и в СНГ пользуются сложившейся ситуации. Отечественным компаниям приходится осуществлять продажи с большими дисконтами. Но и в целом на мировом рынке котировки падают. Во многих странах они опустились ниже уровня середины февраля текущего года.
Спрос на стальную продукцию в мире сужается. Глобальная экономика все глубже обваливается в кризис. Долгосрочный рост цен на энергоносители и продовольствие, повышение процентных ставок, разрыв логистических цепочек, политическая нестабильность делают металл невостребованным. Причем обстановка, очевидно, будет еще ухудшаться.
В российской экономике тоже вовсю идут негативные процессы. Три месяца завышенных процентных ставок, огромные проблемы с импортом и экспортом, повышение цен резко снизили деловую активность. Государственных денег в реальный сектор тоже поступает недостаточно. Программы поддержки различных отраслей задекларированы, но с их реальным исполнением на местах есть проблемы.
По некоторым оценкам, видимый спрос на прокат в России уменьшился на 25-35% по сравнению с тем же уровнем прошлого года. К этому надо еще добавить кратное падение экспорта в марте-мае и стремление металлургических компаний сохранить более-менее приемлемый уровень загрузки мощностей. В результате получаем беспрецедентное превышение предложения над спросом, обвал цен и накопление складских запасов, прежде всего, у производителей и в подконтрольных им сбытовых сетях.
На что надеются металлурги? Прежде всего, на улучшение внутреннего спроса и хотя бы частичное восстановление экспорта в июне-июле. В принципе, можно рассчитывать, что после завершения срока мартовских депозитов, которые размещались на три месяца более чем под 20% годовых, в финансовой системе высвободятся определенные средства, которые хотя бы частично подкрепят спрос. Вероятно, продолжится снижение ключевой ставки Центробанка РФ. Может быть, летом в экономику начнут поступать в заметных объемах государственные средства. Возможно, из-за укрепления рубля и низкого спроса начнется всеобщее понижение цен на все группы товаров и уменьшение затрат.
Впрочем, производители стальной продукции рассматривают и другой вариант – сокращение производства. Остановку доменных и электродуговых печей, МНЛЗ и прокатных станов. К такой политике, в частности, приходилось прибегать в 2009 г., а сейчас дела как бы не похуже.
В общем, основная забота – как день простоять, ночь продержаться, да к концу месяца не обанкротиться. Однако от президента поступило задание на срочную доработку стратегии развития металлургии до 2030 г., да еще с обеспечением долгосрочного понижения цен. Казалось бы, сейчас и на месяц что-либо прогнозировать сложно, а тут требуются планы на восемь лет вперед. Тем не менее, как раз здесь от чего-то можно оттолкнуться.
Самое первое долгосрочное предположение заключается в том, что западные санкции отменены не будут – вообще и никогда. В то же время, России и другим незападным странам удастся создать свою «полуглобальную» экономическую модель со своими системами трансграничных платежей, расчетных валют, внешней торговли, международного разделения труда и т.д. Это как бы необходимое условие. Без него быть ничего не может, иначе не следовало и огород городить, т.е. спецоперацию начинать.
Если все это будет создано, у российских металлургов не будет необходимости отказываться от нынешней модели со значительной экспортной ориентацией. Правда, при этом следует отметить, что на своем «полумировом» рынке им придется конкурировать с другими крупными экспортерами из Индии, Китая, Турции, Ирана, Вьетнама, а в перспективе – некоторых других стран Юго-Восточной Азии и, не исключено, Алжира.
Наиболее перспективным рынком сбыта при этом видится Африка. Неоколониализм принес «Черному континенту» много горя. Следует создавать для него новую модель экономических отношений с развитием не только экспорта ресурсов (на чем фокусируются китайцы), но и внутреннего потребления. По сути, это будет возвращение к советской практике социального прогрессорства, но без тогдашней наивности и прекраснодушия. В то же время, создающие у себя нормальную экономику африканские страны могут стать для российских компаний весьма значимым рынком сбыта.
Африканцам будет нужны, прежде всего, прокат строительного назначения, заготовка, оцинкованный прокат, трубы. То есть, существенного изменения структуры российского экспорта стали не произойдет. Может, хуже будет с непокрытым листовым прокатом, но его, возможно, станут покупать те страны, которые отправляют свою собственную продукцию в Европу. По такой модели, в частности, традиционно строятся отношения с Турцией.
Впрочем, наиболее важные изменения относятся к внутреннему рынку. Здесь президент дает две установки. Первая – это увеличение металлопотребления, а вторая – обеспечение доступных цен.
Итак, за счет чего может возрасти спрос на стальную продукцию в России? Самое очевидное решение – стройка. Но существующая система с опорой на ипотечное кредитование – не панацея. При нынешней стоимости жилья платежеспособный спрос на него будет поневоле ограниченным. Здесь, прежде всего, не помешало бы провести глубокий анализ себестоимости строительных компаний на предмет определения источников их затрат и поиска путей их снижения.
Второй вариант – широкомасштабный приход в строительный сектор государства, например, в рамках национальной программы «Строительство», которая должна быть запущена в 2023 г. Основным содержанием этой программы может стать, скажем, строительство максимально недорогого «социального» жилья с кредитованием по минимальной ставке. За счет этого как раз можно будет повысить спрос и увеличить объемы строительства до тех самых 120 млн. кв. м в год, о которых указывается в Национальном проекте. Наконец, рост металлопотребления в строительстве может дать дальнейшее ускорение реализации инфраструктурных проектов.
К такому развитию ситуации отечественная металлургия полностью готова. В России и так существует избыток мощностей по производству стальной продукции строительного назначения. Сейчас они, к слову, в значительной мере не задействованы.
Более важное и сложное направление – это создание в России импортозамещающего производства промышленной продукции по множеству отраслей. Судостроение и авиастроение. Промышленное оборудование, станки, дорожная, строительная, горнодобывающая техника, транспортные средства и комплектующие к ним. Подшипники, электромоторы, сервоприводы, специализированный крепеж и очень много прочего. И, не забыть бы, металлосодержащие потребительские товары.
Сегодня трудно сказать, какое именно производство каких видов продукции из этого гигантского списка удастся наладить в России и в какие сроки. Но очевидно, что для новой индустриализации понадобятся специальные, нерядовые марки стали в очень широком ассортименте и в сравнительно небольших объемах для каждого отдельного вида продукции.
Поэтому вполне вероятно, что одним из основных пунктов новой стратегии развития российской металлургии должно стать создание подобной «малой металлургии» — гибких производств, способных давать по конкретным заказам относительно небольшие партии специализированной высокотехнологичной продукции. Причем такая деятельность может осуществляться и на крупных предприятиях: пример подобного подхода может, например, продемонстрировать ЧТПЗ. Да и у «Магнитки», «Северстали», НЛМК есть все возможности для выпуска качественных сталей. В сортовом сегменте такие мощности сейчас и так не загружены и могут быть расширены.
Важной составной частью этого направления должно стать освоение в России нержавеющего листового проката. Это, наверное, самый проблемный сектор в отечественной металлургии. В случае успешного проведения импортозамещения нержавейка будет очень востребованным материалом.
Что касается доступных цен, то здесь могут быть важными следующие аспекты. Во-первых, это относительно высокий курс рубля, который удешевит импорт и понизит уровень экспортных паритетов.
Во-вторых, снижение уровня затрат металлургов – прежде всего, на логистику. Понятно желание РЖД быть рентабельной и прибыльной организацией, но, наверное, важнее обеспечить относительно низкий уровень транспортных расходов для всех субъектов экономики. То же самое можно сказать о тарифах на электроэнергию и стоимости топлива. Наконец, следует кардинально пересмотреть подходы к снижению выбросов углекислого газа и прочему ESG. Новомодные «безуглеродные» технологии – это чистые затраты для металлургов. Никакой потребительской ценности они не несут.
В-третьих, меры антицикличного рыночного регулирования. В 2021 г. обсуждалось создание госрезерва металлопродукции. Не исключено, что это решение следует рассмотреть повнимательнее. Также избежать резких скачков цен могут помочь данные оперативного мониторинга – например, в виде индекса «МСС-ТР» (Температура рынка). Им могут воспользоваться как дистрибьюторы, так и производители.
Наконец, в-четвертых, можно сделать ценовой вопрос менее важным. Если значительная часть потребления стали в России будет приходиться на высококачественную специализированную продукцию для промышленности, ее стоимость станет второстепенным фактором. Вообще, Россия должна увеличивать долю в экономике высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Тогда генерируемых прибылей хватит и бизнесу, и населению, и государству.
Мир, похоже, разделяется новым «железным занавесом». Но тогда стоит позаботиться о том, чтобы на нашей стороне от него жизнь была лучшее и комфортнее.
Несмотря на все нынешние трудности, мы по-прежнему приглашаем получить новую информацию, встретиться с коллегами и деловыми партнерами, обменяться мнениями на выставках и конференциях, которые пройдут в 2022 г. Так, 20 июня в Москве состоится конференция «Электронная коммерция на рынке металлов». А в рамках деловой программы выставки «Металлоконструкции 2020» будут проведены конференции «Качественный крепеж — надежность машин и металлоконструкций» (21 июня) и «Стальные конструкции: основные тренды 2022 г.» (22 июня).
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Цены падают. Почти на все виды стальной продукции и на всех рынках — российском и мировом. Это падение происходит несмотря на высокие затраты металлургов и широкие инфляционные процессы. Основная проблема заключается в сокращении спроса.
Если ранее специалисты говорили об опасности стагфляции, соединяющей в себе стагнацию экономики и высокую инфляцию, то теперь впору изобретать новый термин — рецефляцию или инфлецессию. Поскольку уровень инфляции во многих странах находится на многолетним максимуме, а глобальная экономика все дальше вкатывается в рецессию.
Украина — огромная горячая точка, от которой раскалился уже весь мир. Еще немного, и он начнет плавиться, оплывать и рушиться до основания. На планету накатывается сразу несколько кризисов — энергетический, продовольственный, ресурсный, финансовый, логистический.
И хорошо, если к ним не добавится еще военно-политический. Хотя, по мнению Дмитрия Медведева, написавшего о десяти последствиях нынешнего кризиса, без него тоже не обойдется.
В то же время, в различных местах обстановка развивается по разному. Внешние проявления кризиса зачастую сходные. Но причины, детали и обстоятельства могут существенно отличаться.
В России сбылась мечта Минпромторга об удешевлении стальной продукции. Если взять за точку отсчета начало марта, первую кризисную неделю с ее ценовым скачком, то с тех пор стоимость арматуры на споте в Москве упала почти на треть, горячекатаного проката — более чем на 20%, холоднокатаного и оцинковки — примерно на 15%. Котировки на некоторые виды продукции опустились на уровень первой половины февраля, а на арматуру — вообще октября прошлого года.
Экономика страны, как указывается в докладе о денежно-кредитной политике Банка России, столкнулась с одним из сильнейших вызовов с начала 90-х гг. О текущем положении в ней весьма красноречиво свидетельствуют данные о падении продаж жилья в Москве в апреле более чем на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года и обвал авторынка, где покупки легковых и легких коммерческих автомобилей оказались в 4,6 раза меньше, чем год назад.
Неопределенность сложившейся обстановки, высокие процентные ставки, огромные и не преодоленные пока трудности во внешней торговле, сильное и неравномерное повышение цен — вот те основные факторы, которые резко ограничивают покупательскую активность на российском рынке стальной продукции.
Как долго продлится такая ситуация? Прежде всего, очень вероятно, что украинский кризис скоро не завершится, а это сам по себе мощнейший фактор нестабильности. Также мало надежд на то, что западные правительства под чутким руководством Вашингтона в обозримом будущем свернут со своего пути наращивания санкционной активности и политической напряженности. Режим торговой и финансовой блокады будет лишь ужесточаться. Там еще есть, куда.
Согласно оценкам Банка России, отечественная экономика встала на путь приспособления к обстоятельствам, но, по большей части, адаптируется к санкциям только к середине 2023 г. Как говорит народная мудрость, ломать — не строить. Но верно и обратное: строить — не ломать. Процесс созидания чего-либо требует целенаправленных действий, организационного начала и ресурсного обеспечения.
При этом экономика реагирует на негативные сигналы быстрее, чем на позитивные. Например, взлет цен в начале марта, сигналом для которого стал обвал рубля, произошел моментально. А вот укрепление российской валюты до максимальной отметки с начала 2020 г. практически не замечается потребительским рынком. Впрочем, здесь следует отметить и такой фактор как резкое увеличение логистических затрат у импортеров. Поэтому рубль, наверное, еще должен повыситься и, главное, закрепиться на новом уровне на несколько месяцев, чтобы его курс стал всеобщим ориентиром.
Вообще, по прогнозу Банка России, в текущем году объем российского импорта сократится на 32,5-36,5% по сравнению с 2021 г. Правда, в следующем году произойдет его стабилизация, а в 2024 г. можно будет рассчитывать на небольшой рост.
Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, в 2022 г. размер бюджетного стимула составит около 8 трлн. руб. Из них половина — это дополнительные расходы бюджета, которые за первые четыре месяца текущего года прибавили порядка 25% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности.
И хотя нет информации о том, какая часть из этих средств пойдет на компенсацию потерь, а какая — на реальное развитие, экономика на эти триллионы рано или поздно отреагирует. Вопрос лишь в том, как быстро выделяемые из федерального бюджета средства дойдут до конкретных исполнителей и превратятся в новые дороги, здания и цеха. Пока все процессы идут достаточно оперативно, но влияние анонсированных стимулов на реальный сектор, скорее всего, проявится, в лучшем случае, ближе к осени.
Очень важный вопрос — процентные ставки. По оперативным данным Росстата, в период с 30 апреля по 6 мая недельная инфляция замедлилась до 0,12% — уровня первой половины февраля. Определенно, Банк России будет снижать ключевую ставку. Но когда, с какой скоростью, пока не понятно. Нынешние 14% — это слишком много. Но вряд ли этот показатель сократится до однозначной цифры в ближайшие месяцы.
В то же время, льготная ипотека сейчас составляет 9%, а это уже что-то. Вскоре завершится трехмесячный срок по депозитам, размещенным в конце февраля — начале марта по сверхвысоким ставкам. Эти деньги снова появятся в обороте, что может привести к некоторой активизации спроса на жилье и автомобили и косвенно поддержать российский рынок стальной продукции.
Однако если внутренний спрос в июне улучшится, он вряд ли достигнет баланса с избыточным предложением. Скорее всего, некоторым российским металлургическим компаниям придется сокращать объем выпуска. Это, кстати, поможет немного опустить высокие российские цены на металлолом.
Ряд российских производителей ищут альтернативное решение, выталкивая излишки на экспорт. И это у них даже получается. Но цены! Чтобы компенсировать влияние санкций, турецким и китайским покупателям приходится предлагать дисконты в размере $100-200 за т (или 15-20%) по отношению к уровню мирового рынка.
Из-за укрепления рубля экспортный паритет уже стал ниже внутренних цен. Но главная задача сегодня — это пристроить за рубежом выпавшие из-за санкций объемы. Если удастся ее решить, это создаст условия для достижения относительной сбалансированности внутреннего рынка где-то в середине лета.
Тем не менее, у российских металлургов, дистрибьюторов и конечных потребителей металлопродукции есть какой-то свет в конце туннеля. Далекий и не слишком яркий, но есть. А вот как обстоят дела у наших бывших «партнеров», которые теперь совсем не партнеры?
Европа увлеченно играет в игры с импортозамещением российских энергоносителей. Идея с введением эмбарго на импорт нефти и даже газа из России мощно и в извращенной форме овладела широкими массами.
Что самое интересное, теоретически этот вопрос решаемый. Даже с газом. За последние два с половиной месяца только в Северной Америке анонсировано около 20 проектов строительства линий по сжижению природного газа. Их совокупная мощность позволит заместить весь российский экспорт трубопроводного газа в ЕС по состоянию на 2021 г.
Однако, как говорится, есть нюансы. Прежде всего, первые из этих проектов могут быть реализованы не ранее 2026 г. До этого времени лишнего газа на мировом рынке не будет. Разве что, европейские страны будут согласны платить за него не менее $1200-1700 за 1 тыс. куб. м, чтобы выбить с рынка значительную часть азиатских покупателей.
Второй вопрос более интересный. Он звучит так: а хватит ли в Северной Америке газа, чтобы обеспечить такой рост поставок? В 2021 г. США экспортировали в виде сжиженного природного газа (LNG) лишь 10,6% от объема национальной добычи. В марте 2022 г. этот показатель достиг 12,5%, что в апреле привело к подъему цен на газ в США до рекордного уровня с 2008 г. И пусть это всего лишь $270-280 за 1 тыс. куб. м, но американская экономика основана именно на дешевом газе.
Причем основная проблема американских газовиков заключается не в расширении добычи, которая в ближайшие годы, судя по прогнозам местных специалистов, будет расти гораздо медленнее экспорта, а в транспортных возможностях. Процесс получения разрешений на строительство трубопроводов в США весьма сложный и не быстрый.
От российской нефти и дизельного топлива тоже можно отказаться. Но здесь парадоксальным образом последствия будут зависеть от степени жесткости вторичных санкций. Если российские нефтяники компенсируют потерю европейского рынка продажами на других направлениях, глобальный баланс не нарушится. В ином случае стоимость нефти подскочит в прямой пропорции от масштабов сокращения российского экспорта по причине дефицита.
Одним словом, введя эмбарго на импорт российских энергоносителей, европейские страны уже сейчас столкнутся с большими проблемами. По крайней мере, за нефть и газ им придется платить втридорога в течение очень долгого времени, что обернется падением рентабельности региональной промышленности и, очевидно, безвозвратной ликвидацией части ее мощностей.
Собственно, на это намекает обстановка на европейском рынке стали, где в последние несколько недель наблюдается сильнейшее падение спроса. По сравнению с пиком, который в ЕС пришелся на начало второй половины марта, котировки на горячекатаный прокат упали примерно на 20% и продолжают снижение. Кстати, что интересно, сортовой прокат в Германии отнюдь не дешевеет. Похоже, что мини-заводы просто не могут себе это позволить в ожидании нового скачка цен на природный газ и тарифов на электроэнергию.
Еще одним источником слабости для рынка стали и всей мировой экономики выступает Китай. Там борются с коронавирусом уже два месяца, но без особого успеха. Работу промышленных предприятий локдауны сами по себе затрагивают сравнительно слабо, но зато сильно затрагивают логистику. Транспортные потоки внутри Китая и вовне нарушились. На местном рынке возник избыток предложения стальной продукции. Цены на нее, в том числе, на экспорте снизились до уровня середины января.
Пожалуй, можно сказать, что здание мировой экономики находится сейчас в процессе разрушения. Санкции, их последствия, а также коронавирус в Китае сносят его буквально до основания. И очевидно, какое-то время (скорее всего, немалое) нам придется жить в условиях нарастающего хаоса.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Природа нас не балует в этом году. Уже май наступил, а в наших северных широтах настоящего весеннего тепла, считай, и не было. Впрочем, суровому году — холодные ветры!
«У рынка провалилось дно», — так характеризуют сложившуюся обстановку некоторые металлотрейдеры. В марте правительство, помнится, «выжимало» из металлургов понижение цен на прокат, ограничивало торговую наценку для дистрибьюторов. Месяц спустя все это стало не актуально.
Цены падают без всякого влияния государства, под влиянием неблагоприятной рыночной обстановки. К началу мая котировки на арматуру опустились до минимальной отметки с октября прошлого года. Горячекатаный прокат снизился только до январских показателей, но, может, просто еще не успел.
Российский рынок оказался разбалансированным. С одной стороны — падение спроса. Дорогие деньги, вымывание оборотных средств, отказы банков в финансировании, резкое увеличение затрат — все это уменьшило видимое потребление на 20-30%. А стартовавший еще в марте ценовой спад еще сильнее все обострил. У потребителей, даже имеющих деньги на счету, возник прямой резон отложить закупки в ожидании, что дальше все станет еще дешевле.
С другой стороны, на значительные уступки идут не только дистрибьюторы, но и металлургические компании. У них сокращение экспортных поставок привело к накоплению значительных излишков продукции. Продажи за рубеж идут, но только по некоторым направлениям, где есть возможность осуществления расчетов и физической доставки. Крупнейшим покупателем пока является Турция. Однако продавать приходится со значительным дисконтом. В конце апреля экспортные котировки для российских компаний с учетом укрепления рубля стали ниже внутренних.
Теперь, чтобы стабилизировать рынок, металлургам, похоже, придется сокращать производство. Хотя такие решения будут приниматься не сразу и не быстро. В мае объем выпуска, по-видимому, существенно корректироваться еще не будет.
Важный вопрос заключается в том, когда российская экономика достигнет дна, а также когда и как сможет от него оттолкнуться. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает, что самое сильное снижение ВВП и пик инфляции придутся только на четвертый квартал текущего года. С точки зрения экономики в целом это выглядит достаточно правдоподобно.
Перестройка логистических цепочек займет немало времени. В Китае локдауны, поэтому связь с ним затруднена. Многие нейтрально настроенные страны осторожничают, выжидая, когда, как и чем завершатся украинские события. Очевидно, о какой-либо стабилизации обстановки можно будет говорить лишь после прекращения боевых действий.
Эльвира Набиуллина заявила, что вопрос о привязке курса рубля к золоту не обсуждается. Хотя, судя по недавнему интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, идеи, можно сказать, носятся в воздухе. Между прочим, совсем не обязательно, что речь идет именно о золоте. Оно, конечно, — металл красивый, но его ни в бак не заправишь, ни на обед не приготовишь. А если, например, только за рубли можно будет купить природный газ, нефть, продовольствие, палладий с титаном? А если не за рубли, а за какую-нибудь новую международную валюту?! Не исключено, что работа на этом направлении таки ведется, хотя ее результаты мы увидим сильно не сразу.
Не менее нескольких месяцев займет и прояснение ситуации с импортозамещением. Российская экономика достаточно сильно интегрирована в мировую. А в производственной цепочке достаточно выпадение всего пары-тройки звеньев, чтобы нарушился весь процесс. Многие предприятия сообщают о поступлении огромного числа заказов от клиентов, которые ранее использовали импортные аналоги. Но увеличение выпуска или расширение ассортимента зачастую наталкиваются на дефицит финансовых и кадровых ресурсов.
Кроме того, новая ситуация требует широкомасштабной законодательно-регулятивной перестройки. Так, имеющиеся меры господдержки не всегда помогают, так как были разработаны в иной экономической реальности и для иных целей. Сами промышленники, отраслевые эксперты, депутаты видят необходимость глубоких перемен в налоговом, таможенном, антимонопольном законодательстве. Работа над этим идет, причем весьма высокими темпами, но потребуются месяцы, чтобы изменения сказались на низовом хозяйственном уровне.
Тем не менее, все это еще не означает, что за суровой весной последует такое же холодное лето. Перед Первомаем ключевая ставка была понижена до 14% и будет уменьшаться и дальше. Эльвира Набиуллина предупредила, что следующие шаги будут не такими решительными, однако можно рассчитывать на то, что в ближайшем месяце произойдет, по меньшей мере, еще одна коррекция.
Если к концу мая ключевая ставка упадет до 11,5-12,5%, а льготная ипотека понизится, например, до 7%, то стройка определенно получит возможность дышать. В июне с некоторым опозданием может таки начаться полноценный строительный сезон. За еще один месяц борьбы с кризисом удастся восстановить еще какую-то часть экспорта и разблокировать какие-то направления импорта. Многие западные компании уже осваивают работу с Россией в «сером» режиме. Терять прибыли и нести убытки из-за политиков им совсем не улыбается.
В то же время, рассчитывать на ценовой разворот в ближайшее время будет сложно. Избыток предложения так просто не уберешь. В условиях торговой блокады и прекращения вывоза капитала из России рубль продолжит укрепляться. Мартовский скачок инфляции уже, похоже, сменяется дефляцией. Сжавшийся из-за всеобщего подорожания спрос приходится восстанавливать удешевлением. Главное, что потребление вообще есть, и его можно стимулировать хотя бы таким способом.
Безусловно, в нынешней ситуации сложно делать прогнозы. Есть очень много рисков. Причем они не ограничиваются военно-политической сферой, хотя с ней тревожнее всего. За последние два с лишним месяца Россия значительно ослабила свои связи с мировой финансовой системой, но остается достаточно тесно связанной с глобальной экономикой. А она, похоже, находится накануне серьезных испытаний.
На мировом рынке стали происходит то же самое, что и на российском: цены снижаются. Причем основная причина и там заключается в сужении спроса. В Китае экономика уже заметно страдает от локдаунов, хотя обстановка на самом деле там очень неоднозначная. Это, в частности, проявляется на местном рынке стальной продукции.
Под влиянием противоречивых заявлений и неоднозначных данных цены на нее в Китае с начала марта совершают колебания, причем порой весьма резкие, но… в достаточно узком интервале. На торгах Шанхайской фьючерной биржи для арматуры он составляет примерно 4800-5100 юаней ($727-773) за т, для горячекатаного проката — в среднем, на 100 юаней выше.
Китайский экспорт стали определенно увеличился, но цены на него во второй половине апреля падали, в том числе, и из-за проблем с логистикой, а также ослабления курса национальной валюты. Однако и китайские власти предупреждают металлургов, чтобы они не увлекались внешнеторговыми операциями и не создавали дефицит на внутреннем рынке.
В других регионах — иные заботы. Так, на Ближнем Востоке после праздников, завершающих Рамадан, может немного активизироваться спрос на стальную продукцию строительного назначения, при том, что цены на нее упадут. Российские компании смогли существенно увеличить экспорт полуфабрикатов, а падение цен на них привело к резкому удешевлению металлолома в Турции, примеру которого, очевидно, последует и сортовой прокат.
Европейские политики своим санкционным жаром загнали региональную экономику в глухой угол. Отказаться от российского газа в ближайшие годы она не сможет. Даже те страны, что официально объявили о нежелании платить за него рублями, очевидно, будут доставать его различными «обходными» путями. Но цены на газ на уровне $1000 за 1 тыс. куб. м и выше — это надолго. Равно как и тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в пределах 150-200 евро за МВт-ч.
Промышленность в такой обстановке нормально работать не может. Металлургам проще: при наличии квотирования импорта они будут удерживать котировки на свою продукцию на таком уровне, чтобы отбить затраты или хотя бы не слишком много терять. Но рецессия в Евросоюзе, очевидно, неминуема. Причем она будет происходить с полного ведома и одобрения Европейской комиссии, так как таким образом упадет потребление российского газа, а от импорта нефтепродуктов вообще можно будет отказаться.
В то же время, для США складывающаяся ситуация пока не выглядит критичной. Наоборот, в последние месяцы в американском металлургическом секторе было анонсировано беспрецедентное количество новых проектов. Новые крупные предприятия по выпуску листового проката будут строить U.S. Steel и Nucor. Та же Nucor будет возводить мини-заводы для производства арматуры, спрос на которую, как ожидается, существенно возрастет благодаря триллионной программе модернизации американской инфраструктуры. Сразу несколько компаний приступили к строительству в США заводов по выпуску алюминиевой продукции. Если это не повторная индустриализация, о которой много говорили еще при Трампе, то что?!.
Правда, в США собираются бороться с инфляцией путем повышения ставок. Это хорошо для доллара, который «тяжелеет» по отношению к остальным валютам (кроме рубля), но может быть не очень здорово для экономики страны. По крайней мере, первый квартал США завершили со снижением ВВП на 1,4%. Однако Штаты, как и Россия, кстати, играет вдолгую. Поэтому к ним, скорее, применима поговорка: «Цыплят по осени считают». А впереди еще только май.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»
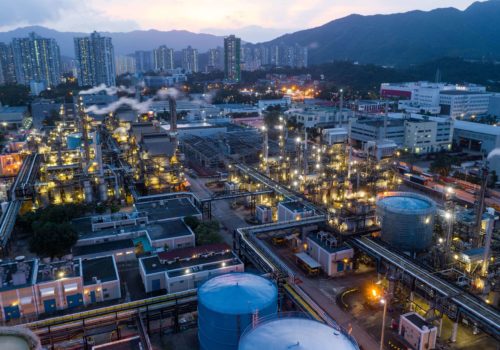
Вот уже два месяца мы живем в условиях новой экономической реальности. Так, в частности, изящно охарактеризовали нынешнюю ситуацию некоторые участники Национального промышленного форума, который состоялся 22 апреля в Москве.
В чем же заключается эта «новая реальность»? Прежде всего, в безвозвратном отказе от многих вещей, которые ранее казались само собой разумеющимися и незыблемыми. Логика самого жесткого противостояния с Западом с начала 50-х гг. ХХ века, а то и с времен Гражданской войны приводит, с одной стороны, ко все новым ограничениям для российского бизнеса, а с другой, к пониманию невероятного масштаба стоящих перед ним задач.
Процесс адаптации к новым суровым условиям все еще продолжается. Обстановка остается неустойчивой и непредсказуемой. Давление со стороны наших западных «непартнеров» еще не дошло до пика. Еще не против всех российских компаний введены санкции, пока не полностью перекрыты границы, а западный бизнес еще не весь подчинился антироссийской идеологии и не отказался полностью от российского рынка.
Наконец, еще не завершилась история с рублевой оплатой за российские энергоносители. Судя по тому, что на Московской валютной бирже время от времени происходят внезапные укрепления рубля по отношению к западным валютам, какие-то крупные суммы в евро или долларах на нее заходят. Кроме того, страны ЕС все-таки пока не решились вводить эмбарго на импорт российского газа, а Еврокомиссия признала оплату в рублях возможной. Однако в ближайшее время нельзя полностью исключить громогласных скандалов с последующим прекращением поставок.
Тем не менее, в российской экономике явно приближается своя «вторая фаза» специальной операции по перестройке ее модели. Суть ее заключается в переходе от «чрезвычайности» к «нормальности», от реакции на действия противника по выстраиванию экономической блокады к созиданию. На проходившей 21-22 апреля конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок» и на Национальном промышленном форуме немало внимания уделялись практическим вопросам выстраивания новых внешнеторговых потоков и запуску инвестиционного процесса.
Да и на совещании по вопросам развития отечественного металлургического комплекса, проведенном президентом 20 апреля, эти вопросы тоже занимали центральное место. Ведь компенсировать потери, понесенные российскими металлургами на западных рынках, можно только двумя способами. С одной стороны, надо находить новых торговых партнеров в нейтральных и дружественных странах Азии, Африки и Латинской Америки. С другой, следует увеличивать металлопотребление в России, а для этого нужно во множестве запускать новые строительные и инфраструктурные проекты и развивать широкомасштабное импортозамещение в промышленности. Это, со своей стороны, требует значительного расширения внутренних инвестиций.
Текущая ситуация немного напоминает 2014-2015 гг. Тогда, во время «первой очереди» западных санкций, было существенно улучшено взаимодействие власти и бизнеса. Удалось решить ряд застарелых нормативных проблем, была создана система государственной поддержки инвестиционных проектов. Новый толчок законодательному процессу дали коронавирусные локдауны весны 2020 г.
Сейчас бизнес и государство снова решают сообща серию еще более острых проблем. По отзывам предпринимателей, нормотворческий процесс резко ускорился. На редкость оперативно происходит согласование. Комитеты РСПП работают в тесной связке с Министерствами. У бизнеса опять выдалась возможность указать правительству на недоработки в законодательной сфере и обратить его внимание на нормы, не соответствующие новым реалиям. И при этом он с полным на то основанием рассчитывает на оперативную обратную связь.
За два месяца было сделано достаточно много. Например, реанимирован СПИК 1.0 и в целом значительно ускорен процесс заключения специальных инвестиционных контрактов. Российскому экспортному центру было поручено заняться поддержкой критического импорта. Подвести под это нормативную базу и внедрить ряд продуктов в Центре обещают уже к концу апреля.
Фонд развития промышленности докапитализировали на 37,7 млрд. руб и докапитализируют еще. Кроме того, он сможет направить на выдачу новых кредитов прибыль и средства, полученные от погашения прежних займов, на общую сумму 46,5 млрд. руб. По словам одного из руководителей ФРП, деньги найдутся на любое количество хороших заявок.
Под эгидой Минпромторга создается общероссийская база данных по импортозамещению материалов, комплектующих, запчастей, оборудования. Определяется, что еще можно будет получить от традиционных поставщиков, что придется закупать в обход, аналоги чего можно найти в дружественных странах, а что смогут освоить российские производители. Многие отечественные компании реально рассматривают нынешний кризис как возможность. Тем более, что государство готово их всецело поддержать. По словам одного участника Национального промышленного форума, нужно свое здесь и сейчас!
В частности, сейчас создается механизм гарантированного заказа и гарантированного спроса на высокотехнологичную импортозамещающую продукцию. Разрывается старый заколдованный круг, когда российские компании опасались вкладывать немалые средства в подобные проекты, так как не были уверены в том, что их новинки будут пользоваться спросом, а спроса не было, так как потребители не видели предложения российских альтернатив импортным продуктам.
Кризис также создает возможность отказаться от старых правил и схем и выстроить новые, по собственному разумению и исходя из своих потребностей и интересов. Так, на конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок» отмечалось, что металлоторговые компании могут помочь российскому машиностроению перейти на более эффективную западную модель бизнеса, взяв на себя производство деталей и комплектующих под заказ.
При этом собственно на российском рынке стальной продукции дела идут не лучшим образом. Видимый спрос сильно упал. И хотя государство обещает всемерную поддержку инвестиционных проектов, а Центробанк РФ — снижение ключевой ставки, эти изменения к лучшему быстро не произойдут. Пока что металлотрейдерам приходится снижать цены, чтобы хоть как-то поддержать продажи.
Для металлургов ситуация не сильно лучше. С экспортом по-прежнему тяжело. Стальную продукцию за рубеж приходится продавать с дисконтом, а на внешних рынках котировки падают, поскольку и там большие проблемы с наличием спроса. Поэтому в России возникает избыток предложения, а производители вынуждены опускать заводские цены. Судя по всему, в мае они окажутся ниже тех отметок, на которых были перед 24 февраля.
На мировом рынке, скорее всего, спад будет не таким сильным. Дорогостоящие энергоносители и ресурсы — тенденция, очевидно, длительная. Поэтому уровень себестоимости у металлургических компаний так и останется высоким, а цены на прокат будут разгонять инфляцию.
С интересной инициативой выступила германская ассоциация WSM, объединяющая около 5 тыс. компаний, относящихся, в основном, к машиностроению и производству комплектующих. Она призвала металлургов вместе выработать согласованную ценовую политику по всей производственной цепочке создания добавленной стоимости, чтобы все ее участники могли получать хотя бы небольшую прибыль, а цена готовых изделий была бы посильной для конечных потребителей. Так что, не один только российский Минпромторг пытается провернуть нечто подобное с металлопродукцией и стройматериалами.
В целом в западных странах проводят свою политику импортозамещения российских энергоносителей возобновляемыми источниками энергии. Однако дело это не простое и не быстрое, поэтому европейцам настоятельно рекомендуют сократить потребление — ездить на общественном транспорте, мыться холодной водой, прикрутить обогреватели и кондиционеры, чтобы «не кормить Россию».
Вообще, этот аспект показывает разницу подходов, с которыми Россия и западные страны отвечают на вызовы времени. В Европе требуют, чтобы население шло на все большие жертвы ради борьбы с глобальным потеплением, наказания России и т. д. У нас же делают упор, скорее, на преодоление трудностей путем выстраивания новых внешнеторговых схем и создания собственного импортозамещающего производства. Мировоззренческая разница, если вдуматься!
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Больше санкций — всяких и разных! Именно в таких реалиях приходится сейчас существовать российской экономике. При этом основная трудность заключается не в их тяжести и проблемности, а в постоянном пополнении «черных» списков.
Контрагенты российских компаний зачастую опасаются иметь с ними дело. Вот заключишь контракт с российским партнером, а он вдруг станет подсанкционным! А товар уже в пути. Поэтому, как шутят представители экспортеров и импортеров, уж лучше сразу попасть под все санкции, чтобы ничего больше над головой не висело, а затем налаживать работу в новых условиях.
А работа понемногу налаживается. Запускаются схемы, которые позволяют отправлять свою продукцию за рубеж либо получать заказы из-за границы в обход выставленных барьеров. Самым проблемным местом в них остается логистика. Торговая блокада — она как неплотно затянутая удавка. Задушить не задушит, но дышать все равно сложно.
Хотя, конечно, схемы помогают не везде и не всегда. Если одни западные компании сами помогают искать обходные пути, чтобы не лишаться бизнеса в России, то другие, наоборот, даже без официального санкционного оформления полностью рвут все связи с российскими партнерами. Как с некоторым недоумением признают предприниматели, оказывается, теперь не все можно купить за деньги. Даже соображения коммерческой выгоды уходят порой на задний план под напором идеологии.
Как сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин, падение российского импорта в марте составило «десятки процентов». С неэнергетическим экспортом спад, очевидно, не меньший. В апреле-мае, вероятно, дела пойдут лучше, но потери, конечно, будут большие. По прогнозам Министерства финансов и экономического развития, как заявил на заседании комитета Совета Федерации глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, падение ВВП в текущем году составит более 10%.
Прогнозируются также инфляция на уровне порядка 20%, двукратный рост безработицы, суммарный ущерб от санкций в пределах 8% от ВВП. World Steel Association (Worldsteel) предсказывает на текущий год падение видимого потребления стальной продукции в России на 20% по сравнению с прошлым годом, от 43,9 млн. до 35,1 млн. т. С учетом неизбежного сокращения экспорта металлургам, скорее всего, придется уменьшать выплавку стали и производство проката.
Снижение спроса на стальную продукцию в России ощущается уже весьма заметно. В определенном смысле, повторяются кризисы 2015 и 2020 гг. У потребителей плохо с деньгами, финансирование дорогое, затраты растут опережающими темпами. Однако есть еще один мощный негативный фактор — отсутствие уверенности в будущем и неопределенность. Никто не знает, как повернутся дела через месяц или даже через неделю. Как говорится, снег еще сошел не полностью, и не вся дрянь вышла наружу.
Металлургические компании пока не приступали к серьезным сокращениям производства. Но российский рынок постепенно наполняется и переполняется металлом. Заводские цены на апрель установились, но в мае их, скорее всего, придется понижать. По крайней мере, на спотовом рынке медленное удешевление наблюдается практически по всем позициям. Котировки у дистрибьюторов уже зачастую ниже, чем на металлургических предприятиях. А поднять их в нынешних условиях крайне проблематично.
В то же время, человек — это такая живучая скотина, что ко всему приспосабливается. На многих предприятиях жизнь буквально бьет ключом. Там реально берутся за импортозамещение, освоение выпуска новых видов продукции, разработку и внедрение новых идей. Причем есть отзывы о том, что от государства реально есть поддержка, а некоторые вещи, которые ранее серьезно мешали, убирают.
Правда, с другой стороны, РЖД — это зло. Увеличение расходов на перевозки, на аренду вагонов — это, пожалуй, не меньший удар по российскому бизнесу, чем любые санкции. В то же время, услуги автомобильного транспорта, которому отрезали европейское направление, дешевеют.
Можно сетовать на то, что российское государство, как и два года тому назад, собирается помогать, главным образом, «системообразующим» компаниям, которые, как правило, себя и так неплохо чувствуют. На их поддержку, в частности, в виде субсидирования процентных ставок, выделяется 1-1,5 трлн. руб., тогда как остальных поддерживают, в основном, больше морально, чем материально.
Но, с другой стороны, в критической ситуации приходится расставлять приоритеты. На помощь от государства могут рассчитывать только те, кто способны выполнять задачи стратегического уровня и решать реально важные для страны проблемы. Остальным надо задумываться о том, как стать полезными.
Так или иначе, при санкциях мы будем жить долго. А как жить, зависеть будет, прежде всего, от нас самих. Сейчас мы находимся в состоянии достаточно длительного переходного периода, словно переходим вброд болото по неверной, прогибающейся под ногами тропе. Впереди виднеются только размытые контуры желаемого будущего.
Например, медленно и постепенно выстраивается система платежей в национальных валютах, без задействования долларов и евро. Здесь ключевое значение имеет возможность использования такого механизма в нормальной повседневной экономической деятельности, а не в качестве аварийного эрзаца. Вообще, важнейшая задача на ближайшие месяцы — это создание новой нормальности, некой понятной и привычной системы, в которой нам всем жить. Людей, вообще-то, больше всего напрягают не лишения, а неизвестность.
Тут опять выступает вопрос о конечных целях всей этой заварушки. Глядя на западные страны, порой возникает впечатление, что им интересен сам процесс. Политики пиарятся, придумывают новые санкции — в общем, заняты делом. Параллельно происходит конфискация всех активов российского происхождения, до которых эта публика способна дотянуться.
То, что борьба с Россией сопровождается серьезными издержками для экономики и населения европейских стран, в расчет не принимается. Очевидно потому, что конфискуют активы в свою пользу одни, а издержки несут совсем другие. Характерно, что и принципиальное нежелание европейских политиков, чтобы энергокомпании платили за российский газ в рублях, заключается в том, что предложенный механизм не позволяет западным структурам накладывать лапу на эти платежи. То есть, не позволить России обойти санкции для них важнее, чем обеспечить газом свои экономики.
Между тем, апрель перевалил за середину, а значит, скоро придет время рассчитываться за газовые поставки. Могут состояться очень интересные открытия. А может, все пройдет тихо, без шума и пыли. Большой бизнес суеты не любит.
Кстати, вспоминается, что в прежние времена Советский Союз почти всегда жил при торговой блокаде той или иной степени жесткости. И наиболее впечатляющий ее прорыв состоялся в 30-е гг. ХХ века во времена Великой Депрессии. Тогда любой крупный клиент был на вес золота.
И это как бы не намек, но если западные страны ухнут в кризис аналогичного масштаба, вопрос о санкциях может отойти далеко на второй план. На мир сейчас накатываются сразу несколько кризисов — энергетический, ресурсный, продовольственный, а у нас как раз имеется почти все, что нужно. Да, и хороший рынок сбыта — тоже.
Санкции — оружие обоюдоострое. Россия — дорогой ценой, роняя капли крови и клочья шкуры, пытается оторвать свою экономику от западной, а внутренние цены — от мирового рынка. Если рубль укрепится надолго, есть шанс прекратить импорт инфляции, который так донимал отечественную экономику в прошлом году.
В то же время, в США и Европе произошел такой же инфляционный скачок, как в России в марте этого года. Но если у нас наиболее чувствительный удар пришелся по потребительскому рынку, то в западных странах подорожали ресурсы. Так, например, несмотря на слабый спрос котировки на горячекатаный прокат в ЕС, как правило, не опускаются ниже 1300 евро за т EXW, а арматура стоит от 1200 евро за т и выше. Металлургические компании прямо заявляют, что с такими ценами на газ и тарифами на электроэнергию не могут продавать дешевле. И это повышение, которое обещает быть долгосрочным явлением, пройдет по всей производственной цепочке.
Итальянская металлотрейдерская ассоциация Assofermet призвала Европейскую комиссию отменить все ограничения на импорт стали, чтобы насытить рынок и сбавить цены на прокат. Согласно ее заявлению, нынешние котировки просто невыносимо велики для нормальной экономики. Но Assofermet не права. Проблема европейского рынка стали заключается не в дефиците, а в высоких затратах. Если понизить цены, региональные металлурги просто начнут закрываться.
Европейский Центробанк отказался тем временем от повышения ключевой ставки, оставив ее на уровне 0,5%. Таким образом, в ЕС выбрали инфляцию. А вот в США прогнозируется повышение ставок, что поддержит доллар, но может привести к экономическому спаду. По крайней мере, Worldsteel называет изменение приоритетов американской монетарной политики одним из основных рисков для мировой экономики и рынка стали.
Говорят, что когда идешь по болоту, нельзя останавливаться — засосет. Поэтому надо идти дальше, смотреть под ноги и надеяться, что избранный путь приведет на твердую почву, а не в трясину.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Санкции, которые вводятся против России пакет за пакетом, меняют мир. Рынки переформатируются, глобальная экономика распадается на кластеры. А впереди, возможно, грядут новые потрясения, которые затронут уже и финансовую сферу.
Россия по-прежнему находится в остром кризисе, который, как водится, соединяет в себе опасности и возможности. Разрыв с доброй половиной крупнейших торговых партнеров — это очень больно. А укрепление рубля до уровня начала января текущего года почему-то почти не приводит к понижению цен, подскочивших в марте под влиянием инфляционного шока.
В то же время, как сообщил в ходе правительственного отчета в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин, сейчас возникло уникальное в исторических масштабах пространство возможностей. Западные компании, уходя из России, оставляют свободные ниши, которые только и просят, чтобы их кто-то заполнил. Импортозамещение во всех отраслях становится жизненной необходимостью.
Вообще-то, данная проблема очень широка и многогранна. Прежде всего, российская экономика начинает жить по принципу: «Если жить захочешь, то и не так раскорячишься». Трудности, которые она испытывает, настолько велики и обширны, что для их преодоления требуются лишь наиболее эффективные решения.
Распилы, откаты, понты, пиар — нельзя сказать, что все это больше не работает, но вот негативные последствия мгновенно становятся очень неприятными и зримыми. Кризис такого масштаба — идеальная и неповторимая возможность увидеть и оценить, кто чего стоит на самом деле. «Манагеры», умеющие рисовать красивые презентации, оптимизировать затраты и резать косты, в нынешних условиях становятся как-то не совсем востребованными. Нужны, прежде всего, те, кто способен дать конкретный результат. Ставки-то ого-го-го, как высоки!
Следующий вопрос первостепенной важности — приоритеты в импортозамещении. Как показали последние полтора месяца, иностранные компании, чью продукцию достаточно легко заместить, с российского рынка как раз не уходят. Или оставляют для себя открытую дверь. Или готовы втихую поставлять свои товары, просто по другим логистическим каналам.
Самая большая трудность заключается в том, как найти замену продуктам, которые быстро заменить нельзя. А их перечень, увы, весьма обширный. Премьер-министр в своем выступлении в Госдуме упоминал прекращение поставок импортных компонентов для российских самолетов. К этому можно добавить компоненты для автомобилестроения и прочего транспортного машиностроения, промышленное оборудование, микропроцессоры, программное обеспечение и, увы, многое другое. Даже женские прокладки и подгузники, где качество имеет решающее значение.
Более того, промышленная продукция — это только часть наших проблем. Срочно импортозамещать необходимо платежные системы, страховки, реестры, регистры, рейтинги и прочие элементы механизма глобальной торговли, из которой Россию грубо вышвыривают. Когда пришла беда, а жареный петух начал, как оглашенный, больно и метко клеваться во все стороны, обнаружилось, например, что стране не хватает не только самолетов, но и обычного торгового тоннажа, а грузы на сотни миллионов рублей можно задержать в иноземном порту легким движением ручки по бумаге.
В то же время, перейти к экономической автаркии и полному самообеспечению физически невозможно. Точнее, можно, но это будет грустно. В свое время, когда в 2015 г. Минипромторг утвердил первую программу импортозамещения в металлургической промышленности, представители компаний-производителей сразу сказали, что некоторые пункты заведомо выполнены не будут. Российский рынок в некоторых нишах слишком узкий, чтобы оправдать затраты на освоение выпуска достаточно сложной и наукоемкой продукции.
Сейчас мы находимся в том же самом положении, причем по многократно большему числу позиций. И опять упираемся в ту же проблему узости национального рынка. Единственный выход из нее — изначально закладываться на возможность экспорта. С помощью государственных дотаций и пользуясь гарантированным отсутствием конкуренции сделать импортозамещающий продукт, а затем предложить его внешнему рынку. Однако для этого надо — ни много, ни мало — создать альтернативную недискриминационную систему мировой торговли и международных расчетов!
Впрочем, кое-что на этом направлении уже делается. В частности, Россия начинает торговать с Китаем, Индией и Турцией соответственно в юанях, рупиях и лирах, ведется работа над созданием аналогичного механизма с Ираном. А со временем, возможно, придет очередь и международной кооперации.
Вообще, концепция глобализации, что сейчас торжественно издыхает под грохот санкций, изначально была совсем не плоха. Она реально обеспечила подъем мировой экономики в 90-е и «нулевые» годы. Созданную в то время систему международного разделения труда погубили, как водится, недальновидность и жадность. Производственные мощности росли быстрее, чем покупательная способность потребителей. Вместо того, чтобы расширять спрос, сокращались затраты и стимулировалось безудержное потребление «одноразовых» вещей, что привело к быстрому истощению доступных и недорогих ресурсов.
По-видимому, «Глобализация 2.0» должна реализовываться на совсем иных принципах. Дешевых ресурсов и энергии, очевидно, больше уже не будет. Поэтому приоритетами должны стать не дешевизна и количество, а долговечность и качество. Кроме того, в новой системе международного разделения труда все должны иметь возможность нормально зарабатывать.
Впрочем, чтобы дожить до будущего, надо пережить настоящее, а это не так просто. Санкционный пресс на российскую экономику усиливается. Но и противной стороне приходится не сладко. На прошлой неделе западные страны предприняли чрезвычайные меры по снижению мировых цен на нефть, объявив о беспрецедентной по своим масштабам распродаже стратегических резервов. И все же нефть осталась стоить порядка $100 за баррель.
Основная проблема здесь заключается в том, что эта мера одноразовая и конечная: резервы можно распродать, а затем остаться ни с чем. В то же время, российское правительство все-таки старается принимать системные решения. Так, постепенно разворачивается многоуровневый механизм поддержки и развития важнейших отраслей и приоритетных проектов.
В последние годы российская экономика производила двойственное впечатление. В ней существовали, слабо пересекаясь друг с другом, обычный бизнес типичной новой рыночной страны и стратегический сектор, вобравший в себя лучшие кадры, выдающий передовые разработки мирового уровня и выше, реализующий грандиозные проекты и, что немаловажно, имеющий привилегированные условия финансирования. Сейчас, в условиях кризиса, этот сектор может реально стать лидером, вытаскивающим всю экономику страны на новый уровень.
Правда, это сопровождается тем, что в России становится все меньше рынка в его классическом понимании. Это, в частности, распространяется на стальную продукцию, цены на которую в последние две недели практически стабилизировались. Причем, как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, нельзя исключить даже фиксацию цен в чрезвычайной ситуации.
Впрочем, как отметил ведущий акционер группы НЛМК Владимир Лисин, в таком случае не мешало бы зафиксировать и затраты. Пока что же достигнута договоренность между металлургами и дистрибьюторами об ограничении на второй квартал торговой наценки при продаже стальной продукции. Максимальный ее уровень составляет 12%, хотя в нынешней рыночной ситуации эта цифра взята с большим запасом.
На мировом рынке стали между тем продолжается заполнение пустоты, возникшей вследствие вынужденного ухода российских и украинских компаний в конце февраля — начале марта. В частности, европейские компании активно закупали полуфабрикаты в таких странах как Китай, Индия, Индонезия, Турция. Китайский горячекатаный прокат расширяет свое присутствие по всему миру. Цены понемногу снижается, что обусловлено как прекращением ажиотажа, так и ослабевшим из-за дороговизны спросом.
Российские металлургические компании понемногу увеличивают свое присутствие за рубежом, но география их экспорта сильно сузилась. Страны СНГ, Турция, Египет, немного Италия… Расширять этот список пока что сложновато. Однако проблемы постепенно решаются. По крайней мере, металлурги считают, что существенно сокращать производство стали и проката в ближайшее время им не понадобится, а избытка предложения на внутреннем рынке, как минимум, в апреле-мае не должно возникнуть.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Трагический, тревожный и наполненный событиями март прошел. Начинается апрель. Интересно, кто-то думает, что он окажется спокойнее предыдущего месяца?!
Нет, похоже, нам всем придется переквалифицироваться в стайеров. Или в марафонцев. Или вообще в «железных людей» — триатлонистов. Потому что ничего скоро не закончится. Более того, еще ничего толком не началось. Старый мир рушится, а построить новый это только у Господа Бога получилось всего за шесть дней. Люди, они точно дольше провозятся.
Безусловно, главным событием прошедшей недели стало введение нового порядка оплаты российского природного газа европейскими клиентами. Оно вызвало настоящий шквал дискуссий, обсуждений, комментариев, надежд, предвкушений и разочарований.
Однако следует отметить, что подавляющее большинство процессов в экономике не происходит быстро. Да и реальная оплата за газ по действующим контрактам должна состояться где-то не ранее начала второй декады апреля. Тогда же и должны проясниться некоторые важные подробности и нюансы, которые не были однозначно прописаны и пока не до конца ясны.
В западных источниках указываются две основные причины, почему оплата газа в рублях по предложенному российской стороной механизму — это плохо. Во-первых, европейские деньги будут заводиться в российскую юрисдикцию и там оставаться. Заблокировать и подвергнуть санкциям их станет невозможно. Это весьма беспокоит европейских политиков, которые считают одной из основных целей санкций отрезание России от источников евро и долларов.
Во-вторых, европейцам не нравится то, что предложенная схема будет способствовать укреплению российской валюты. Доллар теперь точно не будет стоить 200 руб. Сколько он будет стоить, вопрос дискуссионный, так как во многом зависит от того, в какой валюте будет выставляться счет покупателям — все-таки в евро или в рублях? Если в строке цифрами и прописью будут стоять рубли, то обменный курс станет проблемой для покупателя. А заодно — и лишним стимулом для ослабления режима санкций.
Еще один вывод, который следует из прочтения западных информационных материалов, заключается в том, что европейские и американские специалисты не слишком верят в то, что Россия действительно решится отключить газ, поскольку она тогда лишится важного источника государственных доходов. Ну действительно, какой дурак будет отказываться от живых (хотя и частично заблокированных) денег?!
Правда, например, германские промышленники, представляющие такие известные корпорации как ThyssenKrupp и BASF, предупреждают собственное правительство о том, что прекращение поставок российского газа будет иметь катастрофические последствия для национальной экономики. Потребление газа Германией составило в 2021 г. около 84 млрд. куб. м, из которых 38 млрд. куб. м было использовано промышленностью. При этом из России немцы получили около 56 млрд. куб. м.
В общем, нас ждет, без сомнения, очень интересный месяц, в центре которого будут находиться газовые дела. Сейчас Европа четко идет по пути экономического самоубийства, причем заварившие всю кашу американцы и не скрывают, что кризис им приносит только бонусы.
Неделей ранее лично президент Байден впарил европейцам 15 млрд. куб. м американского сжиженного природного газа. И хотя это соответствует немногим более 3% от годового потребления Евросоюза, важен сам принцип. На прошедшей неделе стало известно, что США исключили российские минеральные удобрения (товар востребованный и дефицитный) из перечня санкционных продуктов, а также вопреки разговорам об эмбарго расширили закупки российской нефти.
Кроме того, США сделали решительный шаг по снижению цен на нефть, от которых в значительной степени зависит стоимость бензина на национальном рынке. Было объявлено о беспрецедентной распродаже национального стратегического резерва в масштабах 1 млн. баррелей в день. Объем этих запасов в конце марта оценивался в немногим менее 570 млн. баррелей (примерно 27 дней американского потребления), так что хватит их надолго. Это реально может снизить темпы роста мировых цен на нефть даже в случае ужесточения антироссийской торговой блокады.
Для российской экономики прошедшая неделя выдалась предсказуемо нелегкой. Экспортные и импортные перевозки остаются, пожалуй, наиболее болезненной проблемой. Решать ее по-прежнему очень нелегко. Дефицит комплектующих в ближайшие месяцы будет доставлять немало трудностей российским промышленникам, и быстро с ними не справиться.
Ассоциация «Русская сталь» в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову от 28 марта оценила возможное падение внутреннего спроса на стальную продукцию в 2022 г. в 30% или около 13 млн. т. В частности, как сообщила ассоциация, по состоянию на конец марта 8 из 14 российских автозаводов приостановили свою деятельность. И даже те, что остались на плаву, будут вынуждены сокращать выпуск и менять ассортимент.
В то же время, подобная оценка может оказаться все-таки слишком пессимистической. Большая часть потребления стальной продукции в России — это стройка, а там все не настолько плохо. Основная проблема — импортные отделочные материалы, но это актуально, в первую очередь, для коммерческого и жилого премиум-сегмента.
В конце марта было, наконец, принято решение о продлении льготной ипотеки с повышением предельного уровня кредита до 6-12 млн. руб. Девелоперам тоже обещано субсидирование процентной ставки. При этом надо учитывать еще и то, что ключевая ставка ЦБ России на уровне 20% — это не навсегда. Рубль за последние две недели прилично укрепился, так что можно, наверное, ослабить гайки.
Еще один источник спроса на стальную продукцию — инфраструктурные проекты. Некоторые из них, потерявшие актуальность в новых условиях, приостановлены, но в целом финансирование на эти цели увеличено. Наконец, не исключено, что позднее, когда ситуация немного устаканится, будут запущены новые программы стимулирования строительного сектора.
Впрочем, российские металлурги, вероятно, столкнутся с другой проблемой. Экспортные поставки у них существенно сократились и, может быть, надолго. Отечественный рынок заменить внешний не сможет. Сейчас это еще не слишком заметно, но в ближайшие месяцы в России может возникнуть избыток предложения металлопродукции. И тогда производителям, возможно, придется снизить загрузку своих мощностей.
Пока что российский рынок стали находится сейчас в относительно стабильном состоянии. Металлургические компании определились с заводскими ценами на апрель и вряд ли будут их менять. Так что теперь дистрибьюторам надо устанавливать свои котировки на такой уровень, чтобы самим иметь прибыль. На прошлой неделе арматура немного дорожала, горячекатаный прокат дешевел, но в целом стальная продукция подходит к равновесию.
На мировом рынке резкие мартовские подъемы тоже переходят в относительную стабилизацию. В Европе рост цен в целом завершился по причине практического прекращения сделок. Горячекатаный прокат местного производства остановился в интервале 1400-1500 евро за т EXW, импортная продукция поступает, в среднем, по 1200 евро за т CFR. При таких ценах европейские компании готовы работать, если им, конечно, не отключат газ.
В условиях резкого падения российского экспорта и фактического отсутствия на внешних рынках украинской продукции (хотя что-то все-таки идет в Европу по железной дороге) резко активизировались за рубежом китайские компании. Они вдруг стали крупнейшими поставщиками заготовки и слябов, а горячекатаный прокат идет в Турцию, страны Персидского залива и даже в Евросоюз с уплатой антидемпинговой пошлины. Российским металлургам, если они смогут возобновить внешние продажи, придется перебивать китайские предложения ценой.
В самом Китае пошла на спад эпидемия коронавируса, что отразилось на уровне биржевых котировок на стальную продукцию и металлургическое сырье. Правительство и Народный банк Китая объявили ряд мероприятий, направленных на поддержку экономики в трудные времена. Так что, настроения там довольно оптимистичные.
У нас, конечно, для оптимизма особых причин сейчас нет. Впереди ждут новые сложные и заполненные трудами недели. Прошедшие изменения необратимы, возвращения к прежним временам не будет. Значит, чисто из чувства самосохранения надо вылепливать из разбитого всмятку окружающего мира что-то более удобоваримое.
Несмотря на все нынешние трудности, мы по-прежнему приглашаем получить новую информацию, встретиться с коллегами и деловыми партнерами, обменяться мнениями на выставках и конференциях, которые пройдут в 2022 г. В Москве 21-22 апреля состоится конференция «Нержавеющая сталь и российский рынок», а 27-28 апреля участники рынка приглашаются в Ташкент на 2-ю Международную конференцию «Рынок металлов Центральной Азии».
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Итак, прошло больше месяца с начала кризиса. Мир необратимо меняется, и все мы не по одному десятку раз помянули древнее китайское проклятие. Прежние модели, отношения, понятия, обыкновенности сносятся до основания, а вот с новым строительством на расчищенном месте придется обождать.
Как когда-то заявлял древний китайский стратег Сунь-Цзы, «война любит победу и не любит продолжительности». Он же еще и говорил, что «хуже всего — осаждать крепости». Тем не менее похоже, что конфликт впереди долгий. Особенно, на экономическом фронте.
Первоначальный шок от тотальных санкций и вызванного ими падения курса рубля понемногу проходит. По крайней мере, панических закупок стало ощутимо меньше, а задранные поначалу цены идут на спад.
Так, в частности, разворачивались на прошлой неделе события на российском рынке стали. По сравнению с пиками в начале марта стоимость арматуры на споте в Москве упала более чем на 15 тыс. руб. за т, на горячекатаный прокат — более чем на 10 тыс. руб. за т, а на сварные трубы — на 20 тыс. руб. за т.
Продолжится ли понижение в дальнейшем? Металлургические компании считают, что нет. Разве что, в ближайшие пару недель ускорит падение металлолом, что может сдвинуть вниз котировки на арматуру. Как оказалось, себестоимость у российских производителей весьма высокая. В некоторых случаях нынешние цены на стальную продукцию даже несколько ниже, чем следовало бы из формулы «себестоимость плюс», предложенной Минпромторгом.
Основная проблема заключается в том, что у всех металлургических компаний есть расходы на приобретение каких-либо ресурсов за рубежом. Это может быть сырье (железная руда, ферросплавы, цинк), химикаты и другие нужные материалы, запчасти к импортному оборудованию, которые теперь так просто не купишь и не ввезешь.
Безусловно, очень хорошо, что за последнюю неделю солидно укрепился рубль. Теперь его курс ниже, чем до начала кризиса, всего лишь на четверть, а не более чем на треть, как неделей ранее. Но дьявол прячется в других деталях. Это, в первую очередь, платежи, а во вторую — физическая доставка.
Обе эти проблемы, конечно, решаются. Как говорится, жить захочешь — и не так раскорячишься! Но все это происходит не быстро. Российские компании возобновили экспорт полуфабрикатов и чугуна, хотя пока что в сравнительно небольших объемах. Но с готовым прокатом сохраняется неопределенность.
Отсутствие российской стальной продукции на внешних рынках создает проблемы и за рубежом, и в самой России. Повышение цен на прокат в Европе продолжается. Так, базовые цены на горячекатаные рулоны в Германии и других странах в северной части Западной Европы достигли 1400-1500 евро за т EXW, а арматура превышает 1200 евро за т. Региональный рынок втягивает в себя стальную продукцию со всего мира (естественно, в пределах квот), что приводит к ее подорожанию в Турции, странах Ближнего Востока и Восточной Азии.
Правда, прекращение поставок из Украины и большие проблемы с российским экспортом несколько нивелируются сужением спроса. В той же Европе промышленники и строители опасаются, что в скором будущем им придется сворачивать свою деятельность, если затраты на электроэнергию и природный газ останутся такими же непомерно огромными. Турецким металлургическим компаниям уже пришлось стабилизировать цены на сортовой прокат, чтобы полностью не обнулить продажи.
Самыми хитрыми, как и во время прошлогодних скачков, оказались китайцы. Биржевые котировки на арматуру и горячекатаный прокат в Шанхае повысились менее чем на 10% по сравнению с предкризисными показателями. Власти охлаждают внутренний рынок, объявляя локдауны. Хотя в страну пришел относительно менее опасный «омикрон», появление пары-тройки-десятка заболевших по-прежнему является поводом для введения карантина в городах с миллионным населением. А таких случаев бывает более 2 тыс. в сутки.
Тем не менее, уровень загрузки мощностей китайских меткомбинатов во второй половине марта вырос до более 85%, что в предыдущий раз наблюдалось летом прошлого года. Китайские компании начали предлагать европейским покупателям слябы, американским — товарный чугун, а также расширили продажи горячекатаного проката в страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива. В принципе, именно они могут заменить российскую и украинскую продукцию на внешних рынках. Но в Китае ждут и новых стимулирующих пакетов для национальной экономики, когда ситуация с коронавирусом улучшится.
На российском рынке резкое сужение экспорта создает опасность перепроизводства и избытка предложения. Или же металлургам, особенно, ориентированным на внешние рынки, придется в самое ближайшее время сокращать выпуск. Видимый спрос на прокат в последнее время активизировался, но это, вероятно, краткосрочное явление. Впереди — весьма серьезное сужение реального потребления.
Разрушение старого мира проходит тяжело для отечественной экономики. Понятно, что если бы не то импортозамещение, что происходило с 2014 г., все было вообще швах. Но новые уязвимости продолжают вылазить в ежедневном режиме.
Например, российские власти всегда привечали приход в страну иностранных компаний, строящих заводы и приносящих с собой деньги и новые технологии. Сейчас же эти предприятия становятся фактором риска и неопределенности. Кто-то ушел сразу, кто-то взял паузу на пару месяцев с неизвестным исходом, кого-то дожали, чтобы ушел… Понятно, что сами заводы никуда не делись, а западному бизнесу наверняка не по нутру отказ от ценных российских активов. Но проблема есть, причем неопределенное состояние затягивается, так как это не то дело, где можно рубить сплеча и принимать поспешные решения.
Строительные компании объявляют о возможности заморозки до 20-30% своих проектов. Под наибольшей угрозой находится премиальный сегмент жилья и коммерческое строительство, где широко использовались импортные отделочные материалы. Возможно, эту проблему можно будет решить тем или иным способом, но все это — время.
Критическими здесь представляются летние месяцы, когда будут израсходованы запасы, созданные еще до кризиса, а для импортной техники придет время техобслуживания. К этому времени и надо будет в целом решить проблемы с поставками и всем прочим или… исходить из того, что их не удастся решить вообще.
В ближайшую пару недель очень большое значение будет иметь инициатива президента о переводе торговли природным газом с недружественными странами на рубли. Очевидно, что если «Газпрому» удастся провернуть такую схему, опираясь на оговорку в контрактах о возможности изменения условий (в данном случае, валюты платежа) по требованию регулирующего органа, это будет очень большое достижение.
Одно только заявление об этом позволило серьезно укрепить рубль, а перевод даже части экспорта на национальную валюту будет способствовать дальнейшему повышению ее курса, что очень важно для снижения инфляции. Кроме того, чтобы осуществлять платежи за газ в рублях, европейским странам придется ослабить хотя бы на небольшом участке режим санкций.
По этой причине российское предложение вызвало такую истеричную реакцию у Европейской комиссии и некоторых европолитиков, для которых идеология имеет абсолютный приоритет над экономикой. При этом Европе в краткосрочной перспективе в принципе не обойтись без российского газа. И в среднесрочной, в пределах 3-5 лет — тоже.
Все заявления об импортозамещении данного ресурса в пределах несколько месяцев не учитывают нескольких важных факторов. Во-первых, в мире просто нет свободного газа в тех объемах, чтобы заместить хотя бы 20% российских поставок.
Во-вторых, аналогичные проблемы есть и с энергетическим углем. Поэтому если европейские страны остановят газовые электростанции и восстановят закрытые несколько лет тому назад угольные энергоблоки, им все равно будет нечем их топить.
Наконец, в-третьих, в Европе нет инфраструктуры для разворота газовых потоков. Импорт того же сжиженного природного газа довели до максимума еще в январе текущего года. А в феврале его пришлось сокращать, потому что не хватило ни места в газохранилищах, ни пропускной способности газопроводов.
Поэтому противостояние на газовом фронте обещает быть исключительно важным. В том числе, и в плане не только разрушения, но и созидания. Старый мир разваливается, но на расчищенном месте надо и строить что-то новое.
Это в полной мере относится и к российской экономике. Там все еще продолжается выстраивание новых механизмов, выработка новых правил, поиск новых решений. И этот переходный процесс будет происходить еще достаточно долго. Последствия разрывов с западными странами, даже если значительную часть из них в конечном итоге удастся в той или иной мере восстановить, будут ощущаться очень остро месяцами, а то и годами.
В обозримом будущем в России придется озаботиться созданием очень и очень многих вещей. Поэтому крайне важно обеспечить для этого хоть мало-мальски подходящие условия. Очень хорошо, что правительство занялось упрощением работы строительных компаний, но такой подход стоит распространить и на другие отрасли.
Если на российском рынке сейчас появилось много пустых мест, не мешало бы хотя бы не мешать тем, кто готов заняться их заполнением. Облегчить, упростить и удешевить не только регистрацию новых предприятий, но и, например, подключение к сетям, получение разрешений, аренду площадей и прочее. Как-то решить вопрос с льготным финансированием новых проектов, немного ослабить гайки в сфере госзакупок… В конце концов, современные информационные технологии позволяют создать достаточно эффективную систему повседневного финансового контроля.
Впрочем, сейчас любой стратег может, не вставая с дивана, предложить не меньше полудюжины идей различной степени гениальности. Проблема всегда упирается в организацию, исполнение, наличие необходимых ресурсов. И знание о том, что надо сделать, мало помогает в ответе на главный вопрос — как?! Тем не менее, важно не пропустить момент, когда надо будет перейти от разрушения к созиданию.
Несмотря на все нынешние трудности, мы по-прежнему приглашаем получить новую информацию, встретиться с коллегами и деловыми партнерами, обменяться мнениями на выставках и конференциях, которые пройдут в 2022 г. В Москве 21-22 апреля состоится конференция «Нержавеющая сталь и российский рынок», а 27-28 апреля участники рынка приглашаются в Ташкент на 2-ю Международную конференцию «Рынок металлов Центральной Азии».
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Как гласит легенда, во времена оны, когда на аренах цирков проводились борцовские турниры — прообразы позднейшего рестлинга и прочих шоу с драками и поединками, раз в год профессиональные борцы собирались в таверне в городе Гамбурге и там при закрытых дверях проводили состязания всерьез и по-честному, чтобы точно знать, кто чего реально стоит, и выстраивать свои действительные рейтинги.
Сегодня вся российская экономика проходит такую же проверку «по гамбургскому счету». Иронично, что она имеет прямое отношение к тому самому городу Гамбургу, в котором, как и в ряде других портов на северо-западе Европы, скопились тысячи контейнеров с грузами для российских компаний, доставка которых зависла из-за отказа морских перевозчиков иметь дело с Россией и введения свирепого экспортного контроля..
Первая неделя после начала украинских событий была просто шоковой, вторая — укороченной из-за праздника и переноса выходных дней. А вот в третью экономике и обществу реально пришлось держать удар.
В целом результаты не радуют. Плюс в том, что курс рубля начал укрепляться после обвала в первых числах марта. Он, правда, на треть ниже, чем до начала кризиса, но все-таки только на треть, а не на половину, да и в дальнейшем можно надеяться на положительную динамику. Тем не менее, по всему рынку прошла настоящая вакханалия повышений на цен на все без исключения товары. Причем импорт, порой, дорожал сразу в разы. Все это сопровождалось паническими закупками, пустыми полками магазинов и припрятыванием товаров на складах и в подсобках. То же самое происходило и в секторе В2В.
Реальная обстановка и в самом деле сложная. С одной стороны, большинство партнеров и поставщиков в европейских странах вовсе не отказываются от продолжения бизнеса в России. Как правило, продолжают работу предприятия с иностранными инвестициями, хотя, конечно, в большой деловой семье — не без уродов. Безусловно, выросли цены вследствие падения курса рубля, а также из-за повышения рисков. Однако с платежами неразрешимых проблем нет.
Но с другой стороны, что в действительности является большой проблемой, так это физические поставки. Крупнейшие судоходные компании присоединились к антироссийским санкциям. Польша превратилась в беззаконный «дикий запад» для российских и белорусских перевозчиков, хотя некоторые компании сообщают о возобновлении транзита. Пока еще слабо восстановилась работа черноморских портов. С российскими экспортерами по-прежнему боятся иметь дело (по крайней мере, официально).
Кроме того, «гамбургский счет» показал, что в огромном большинстве технологических цепочек в России есть импортные звенья с высокой зависимостью от продукции из враждебных стран. Опять-таки, это плохо, но не смертельно. Некоторым товарам можно найти аналоги в Китае, Индии или Турции. Во многих случаях прокладываются новые маршруты. Где-то готовы выйти со своей продукцией российские производители. Эти задачи просто оказались более сложными, чем можно было бы представить заранее. Поэтому времени на их решение понадобится достаточно много.
Уязвимым местом российской экономики остается финансовый сектор. Ослабление курса национальной валюты на треть — это слишком много, особенно, если учитывать проблемы с внешней торговлей и резкий рост логистических затрат. Эхо от падения рубля прошло по всему рынку, став основной причиной инфляционного скачка. И это больно.
Российский центробанк, правда, настроен оптимистично, заявляя о вероятном снижении инфляции до 4% к 2024 г. Но на ближайшую перспективу он оставил неизменной ставку в 20%. Вероятно, снижать ее и в самом деле преждевременно, но для экономики дорогие деньги — это очень сильный удар.
Правительство прибегло к новой для себя тактике, попытавшись снизить цены и начав как раз с рынка стальной продукции. В принципе, идея ограничить рентабельность металлургических компаний уровнем 20-25% и ввести потолок на торговую наценку довольно неплохая. Во всяком случае, это позволяет затормозить инфляцию и предотвратить ее раскрутку. Но здесь сразу вылез ряд достаточно серьезных проблем.
Прежде всего оказалось, что формулу «себестоимость плюс» необходимо распространить по всем звеньям производственной цепочки. И здесь не понятно, что делать с импортными составляющими. Так, например, Россия не обеспечивает себя полностью цинком и вынуждена покрывать более 20% потребностей за счет импорта из Казахстана и Узбекистана. Некоторые российские компании покупают за рубежом железную руду. Производители проката с покрытиями вообще всецело зависят от импортных компонентов.
Таким образом, у российских металлургов объективно растет себестоимость. Да, благодаря инициативе Минпромторга на стальную продукцию предлагается установить предельные цены и отвязать внутренний рынок от экспортного паритета. Но с учетом импортных составляющих уровень этих котировок все равно будет высоким.
В общем, надо, похоже, смириться с тем, что все теперь подорожало, и надо выстраивать по новому уровню не только цены, но и зарплаты. Основная задача таким образом заключается в том, чтобы ценовой скачок так и остался сильным, но одномоментным скачком, а не запустил долгосрочный процесс.
Еще одним проблемным местом проекта Минпромторга является металлоторговля. Предложенная четырехзвенная цепочка «сырье — производитель — аккредитованный дистрибьютор — конечный потребитель» упускает немаловажное пятое звено — локальный розничный металлотрейдер, который часто покупает прокат не с завода, а у крупной федеральной дистрибьюторской сети и продает металл мелкими и очень мелкими партиями ИЖС и прочим подобным покупателям.
Вообще, ручное регулирование экономики — дело очень не простое, так как требует учета очень многих нюансов, на первый взгляд не видимых. Так что, создание вменяемой системы регулирования потребует немало времени, серьезных усилий и, главное, наличия обратной связи. Россия — все-таки правовое государство, где не проходят «простые» решения (Повысить использование металла в строительстве! Отменить обязательные нормативы и проверки!). Все такие вещи должны проводиться в рамках системных процедур и стандартов. Иначе можно в ответ получить такое падение качества, что потом и за десять лет не восстановишь!
Правительство в течение прошедшей недели работало очень усердно. Оно реально превратилось в мощный антикризисный штаб и выдает на гора массу хороших идей. Озвучены намерения по широкой финансовой поддержке различных отраслей экономики. Для приоритетных направлений и важных проектов постулируется, в частности, широкомасштабное субсидирование процентных ставок. Некоторые инфраструктурные и инвестиционные проекты приостановлены, но по другим приняты решения по дополнительному финансированию.
В то же время понятно, что эта поддержка будет дозироваться. Всего на всех никогда не хватит, потому что всего — мало, а всех — много. В данном случае, при повышенном внимании к микроэлектронике, фармацевтике, сельскому хозяйству, авиастроению и др. в загоне остается большая часть потребительского рынка.
Конечно, хорошо, что президент надеется на частный бизнес, который «способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции». Но для этого необходимо будет, по меньшей мере, обеспечить хоть какую-то предсказуемость с финансированием, валютным курсом и физической возможностью поставок. А некоторые импортные товары (например, те же подгузники, прокладки, офисную бумагу) пока можно импортозаместить только по количеству, но никак не по качеству.
Правда, следует отметить, что большая часть проблем для российской экономики затрагивает все-таки, в основном, зону комфорта, тогда как базовому жизнеобеспечению ничего особо серьезного не угрожает. В западных странах ситуация обратная. У них все очень хорошо с ширпотребом, а вот базовое обеспечение сырьем и энергией сильно хромает.
На прошлой неделе было интересно наблюдать за тем, как сбивают цены на нефть. С утра биржевые котировки частенько шли вверх, а вот во второй половине дня по Москве, когда открывались американские биржи, начиналось понижение. В информационной сфере тщательно обсасывали возможное снятие американских санкций с Ирана и даже «новости» о скором заключении мирного договора с Украиной. Тем не менее, нефть «брент» завершила неделю существенно выше отметки $100 за баррель, а газ в Европе так и стоит не менее $1200 за 1 тыс. куб. м. А так как неделя выдалась прохладной и не слишком ветреной, то и электроэнергия в ЕС стабильно котируется не менее 200-250 евро за МВт-ч.
И самое главное, что никакого просвета впереди у европейцев нет. При очень большом желании они через какое-то время смогут частично заместить импорт газа, нефти и дизельного топлива из России. Но обойдется им это очень и очень дорого. Надо понимать, европейские промышленники уже про себя вовсю поминают своих политиков «незлым тихим словом».
На европейском рынке стали продолжается подъем. ArcelorMittal довела базовые цены на горячекатаный прокат уже до 1400 евро за т EXW, арматура и катанка предлагаются по 1200 евро за т и более. Спрос обвалился еще сильнее, чем у нас. Европейская комиссия, издав запрет на импорт проката из России и Белоруссии, правда, увеличила квоты на второй квартал для альтернативных поставщиков. Но и индийские, и турецкие, и корейские, и прочие компании выставляют свои предложения по текущим европейским ценам! Не дешевле!
Самое интересное, что покончить с этой гонкой может только возвращение российских металлургических компаний на мировой рынок. Европа для них, конечно, будет недоступна, но они вполне смогут набрать свое в Турции, странах Ближнего Востока, Персидского залива, Латинской Америки, Восточной Азии, заместив там тех поставщиков, которые активно развивают европейское направление.
Испортить эту схему могут, пожалуй, только китайцы. На прошлой неделе там были отменены все сезонные и экологические ограничения на производство чугуна и стали, что мгновенно дало увеличение загрузки мощностей. Но представляется, что эта продукция будет востребована и на внутреннем рынке. Китай немного попугали коронавирусом, но в последние дни количество новых случаев пошло на спад. К тому же, от правительства КНР ждут запуска новой программы стимулирования экономики.
В общем, все, конечно, тяжело, но есть надежда, что итоговый «гамбургский счет» все-таки будет для российской экономики более-менее благоприятным, когда нынешняя предельная волатильность и непредсказуемость сменится чем-то более стабильным и понятным.
Несмотря на все нынешние трудности, мы по-прежнему приглашаем получить новую информацию, встретиться с коллегами и деловыми партнерами, обменяться мнениями на выставках и конференциях, которые пройдут в 2022 г. В Москве 17-18 марта состоялась конференция «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления», а конференция «Нержавеющая сталь и российский рынок» пройдет в Москве 21-22 апреля.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Две недели, полет нормальный. Ощущаем сильную турбулентность, но движемся по намеченному курсу — так, наверное, можно охарактеризовать ситуацию, что сложилась сейчас в российской экономике.
Западный противник предсказуемо наносит удары там, где он считает себя сильным. Его стратегия нацелена на то, чтобы максимально отрезать Россию от внешних рынков. Основные направления блокады — финансирование внешнеторговых сделок, транспортировка, страхование, т. е. вся обеспечивающая инфраструктура.
От западного бизнеса требуют немедленно прервать все деловые связи с Россией, не западному угрожают вторичными санкциями. Такой фактор как издержки и прямые потери собственных компаний во внимание не принимаются. Налицо подчинение интересов бизнеса идеологии, что, впрочем, и так происходило в рамках BLM, декарбонизации и так далее. Когда-то сходную политику проводил Советский Союз, он плохо кончил. Но это так, к слову.
Поскольку Запад — это империя лжи, для него приоритетом является доминирование в информационном пространстве. И он его имеет. Поэтому следует очень сдержанно относиться к тому, что говорится и транслируется во всеуслышание.
На самом деле, нормальный бизнес любит тишину. И далеко не все западные компании так уходят из России, как они заявляют. Даже те, что закрывают свои предприятия и торговые точки, не увольняют своих сотрудников и платят им зарплату, а также не разрывают отношений с российскими поставщиками. Хотя, понятное дело, есть и те, что предпочитают громко хлопнуть дверью. Как раз на этой неделе они и проявятся.
Ближайшие несколько месяцев, очевидно, станут для всех нас очень интересным временем. Первая неделя кризиса была использована на принятие первоочередных мер, прежде всего, в финансовом секторе. Во вторую шла выработка решений в отношении промышленности и прочей реальной экономики. Итоги этой деятельности были подведены на совещании президента с членами правительства 10 марта. Сейчас наступает время для претворения этих решений в жизнь.
В целом картина получается следующая. В России создается централизованная экономика, но не чисто государственная, как было в Советском Союзе, а смешанная. Тем не менее, частные компании следуют рекомендациям правительства и действуют вместе с ним в едином ключе. Государство, с одной стороны, ограничивает бизнес, прежде всего, в части получения «необоснованных» прибылей, а с другой, помогает ему с обходом санкций, предоставляет целевое льготное финансирование, снижает административное давление. И да, это, своего рода, мобилизационная экономика.
Правительство реально превращается в постоянно действующий антикризисный штаб, работающий в тесном взаимодействии с крупными частными и государственными компаниями. Да, при этом фактически происходит управление экономикой в ручном режиме. Зато это обеспечивает межотраслевую координацию и дает возможность оперативно решать возникающие проблемы.
В долгосрочном плане эта деятельность ориентирована, прежде всего, на импортозамещение по наиболее важным направлениям, где есть сильная зависимость от стран Запада. В принципе, этот процесс начался еще в 2020-2021 гг. Об этом, в частности, рассказывал министр промышленности и торговли Денис Мантуров на Гайдаровском форуме в январе текущего года.
По его словам, для закрытия наиболее проблемных мест требовалось еще порядка 3-5 лет. Не успели. Бывает. Теперь, конечно, придется намного труднее. Но ситуация отнюдь не безнадежная, учитывая то, что торговая блокада не сплошная. Просто многие вещи будут происходить тихо, без излишней огласки, и при деятельной поддержке некоторых государственных органов.
На ближайшую перспективу у российского правительства есть ряд первоочередных задач. В частности, это разблокировка экспортных и импортных операций, решение тех самых проблем с финансированием, транспортировкой, страхованием. Кое-что уже сделано. Так, по данным западных источников, возобновились некоторые продажи российских черных металлов в Турцию. Оплата в лирах.
Не менее важный вопрос — валютные курсы. В последние два рабочих дня рубль постепенно укреплялся и, вероятно, будет укрепляться и дальше. Сейчас, когда большая часть российского экспорта снова будет приходиться на резко подорожавшее на мировом рынке сырье, экономике необходим сильный рубль, чтобы уменьшить стоимость импортной продукции. Тем более, что она и так прибавит в цене из-за усложнения и существенного подорожания логистики.
Однако восстановление позиций рубля — дело, очевидно, не быстрое. Поэтому в ближайшей перспективе нужно решить вопрос с внутренними ценами. Это уже напрямую касается российского рынка стальной продукции. Производители арматуры ограничили заводские цены, фактически установив потолок на отметке 73 тыс. руб. за т CPT. Однако листовой прокат и фасон по сравнению с ней стоят слишком уж дорого. Да и на споте арматура котировалась на прошлой неделе почти на 25% дороже, чем в начале года.
Поэтому металлурги и независимые дистрибьюторы, вероятно, получат дальнейшие рекомендации в части дальнейшего снижения внутренних цен на прокат. При этом само понятие экспортного паритета, скорее всего, будет отправлено в архив. На зарубежных покупателях можно зарабатывать сколько угодно, но российские должны будут получать стальную продукцию в нужных объемах и по приемлемым ценам. Очевидно, такие же принципы будут действовать и в других отраслях российской экономики.
При этом следует отметить, что партнером и контрагентом государства будет выступать крупный бизнес, способный решать сложные и амбициозные задачи по импортозамещению на приоритетных направлениях. Среднему и мелкому обещают меры поддержки, сравнимые с теми, что были введены весной 2020 г., во время коронавируса и локдаунов. Впрочем, вследствие ухода с российского рынка части иностранных компаний и неизбежного усложнения ситуации с импортом откроется много новых свободных ниш. Скорее всего, будут созданы механизмы льготного финансирования проектов по освоению этих направлений.
В целом есть основания рассчитывать на то, что российская экономика продержится в условиях санкций. Но тут возникает резонный вопрос: а что должно стать конечной целью всех этих мероприятий? Если уж нам опять выпало жить в интересное время перемен, то что должно измениться в итоге и каким образом?
Прежде всего, если нам объявили экономическую войну, то противник в ней должен быть сокрушен и повержен. То есть, западная экономика должна свалиться в глубокий кризис и из него не выйти. Скоро это не произойдет — экономика обладает огромной инерцией, и все процессы в ней происходят медленно, но признаки уже есть. И в первую очередь, это резкое усиление инфляции в западных странах, основным источником которого выступает подъем цен на энергоносители, металлы и другие ресурсы. Этот процесс начался еще в прошлом году, но антироссийские санкции его существенно ускорили.
В Европе стоимость стальной продукции уже превысила прежние рекордные значения лета прошлого года. ArcelorMittal и другие крупные производители предлагают горячекатаный прокат по 1300 евро за т, а котировки на арматуру и катанку превысили 1000 евро. В Италии и Испании несколько мини-заводов прекратили работу вследствие запредельных цен на природный газ и электроэнергию.
Европейские потребители стали просят Еврокомиссию срочно отменить или ослабить ограничения на импорт проката. Но, скорее всего, если какие-либо изменения будут внесены, то вступят они в силу не раньше июля. Пока что заменить на европейском рынке российских и украинских экспортеров готовы индийские, турецкие, ближневосточные, восточноазиатские компании, однако предлагают они стальную продукцию по нынешним сверхвысоким ценам. А вот рынки Персидского залива и Дальнего Востока, где стоимость горячекатаного проката на 25-35% ниже, осваивают китайцы.
На Западе тоже активно говорят об импортозамещении российских нефти и газа. Европейцы отказались поддерживать США и не стали вводить на них эмбарго прямо так сразу, но цель такую перед собой поставили. Так, Европейская комиссия обнародовала план, направленный на сокращение импорта природного газа из России на 100 млрд. куб. м или почти на две трети уже в текущем году.
В частности, предполагается в этом году увеличить импорт сжиженного природного газа (LNG) на 50 млрд. куб. м и расширить закупки трубопроводного газа из других источников на 10 млрд. куб. м. Порядка 24 млрд. куб. м должны быть замещены за счет роста выработки возобновляемой энергии. Еще 14 млрд. куб. м планируется сэкономить методом энергосбережения, например, снизив уровень обогрева помещений. Наконец, на целых 3,5 млрд. куб. м возрастет европейское производство биометана.
План, бесспорно, хороший, но с его выполнимостью будут проблемы. Прежде всего, 50 млрд. куб. м — это немногим менее 10% глобального рынка LNG. Причем ввод в строй новых мощностей по сжижению газа во всем мире составит в текущем году лишь чуть более 20 млрд. куб. м. И взять с рынка еще 30 млрд. кубов (а если санкции приведут к сокращению российского производства LNG, то еще больше) — задача, мягко говоря, нетривиальная. Есть большие сомнения и в отношении роста поставок трубопроводного газа из нероссийских источников. Что касается возобновляемой энергии, то тут все зависит от того, как сильно будут дуть над Европой ветры в ближайшие месяцы. А это дело совершенно непредсказуемое.
Кроме того, Европейская комиссия намерена потребовать, чтобы к 1 октября 2022 г. региональные газохранилища были заполнены, по меньшей мере, на 90%. Компании, ответственные за их заполнение, могут получить на эти цели государственные дотации на сумму до 100% от объема затрат. Однако это лишние 40-50 млрд. куб. м спроса на газ, который тоже надо будет за счет чего-то покрыть. В общем, судя по всему, данный ресурс для европейцев в ближайшие месяцы дешевым не будет, а это сулит разнообразные, но неизменно мрачные перспективы для региональной экономики.
В общем, блицкрига не будет — ни для какой стороны. Так что настраиваемся на то, что в ближайшие месяцы всех нас ждет очень не простое, но безумно интересное время.
Другие материалы о российском и мировом рынке стали читайте в разделе «Аналитика».
Несмотря на все нынешние трудности, мы по-прежнему приглашаем получить новую информацию, встретиться с коллегами и деловыми партнерами, обменяться мнениями на выставках и конференциях, которые пройдут в 2022 г. В Москве 17-18 марта состоится конференция «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления», а Калининград 21-22 апреля примет конференцию «Нержавеющая сталь и российский рынок».
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Кто посеял ветер, пожнет бурю, утверждает народная мудрость. А как чувствует себя тот, кто посеял бурю?!.. Вот так он себя примерно и чувствует. Как ежик, попавший в барабан, катящийся с горы.
У Сергея Переслегина в «Сумме стратегии» есть небольшой эпизод о том, как Эрих Людендорф, лучший полководец Германии в Первой Мировой войне, оценивал обстановку в конце 1917 г., когда он фактически встал во главе воюющей страны. Политически и экономически она была катастрофичной, стратегически — очень тяжелой, в области оперативного искусства все было, скорее, хорошо, а в тактике Германия имела ощутимое преимущество.
Ту войну немцы проиграли. А как со всем этим обстоят дела у нас в данный момент?
Политическая и экономическая обстановка тяжелая. Как в начале июля 41-го, отступаем по всем фронтам, теряя живую силу и технику. Особенно, технику.
Что бы ни говорили о том, что удар, нанесенный в ночь на 24 февраля, был упреждающий, сегодня это может быть интересно только будущим историкам. Первой стронув лавину, Россия вызвала огонь на себя, попав под серию сокрушительных атак. На Западе она объявлена вне закона — в самом прямом смысле. Антироссийская кампания в западных средствах массовой… ну, пожалуй, слово «информации» к ним уже больше не подходит… достигла беспрецедентного накала. Все международные организации, находящиеся под контролем Запада, вплоть до ассоциации любителей котиков, исключили ее из своих рядов. Заявка на то, чтобы «действовать как американцы», вызвала серьезное непонимание внутри страны.
На экономическом фронте Запад продемонстрировал свою мощь и силу, нанеся удар по всем ключевым для себя направлениям — финансы, транспорт, международная торговля, страхование, регулирование, информационные и промышленные технологии. Официально объявленные санкции — это мелочь. Главное, что он показал такую сплоченность, что Северная Корея, наверняка, обзавидовалась. Крупный западный бизнес, с радостным энтузиазмом или же обливаясь горючими слезами и грызя кактус, начал рвать отношения с Россией, жертвуя своими доходами, прибылями и деловой репутацией.
Более того, на этом фронте у противника остался еще один мощный резерв — вторичные санкции, которые могут быть применены к тем, кто еще не отказался от экономических связей с Россией. Они пока не объявлены, но эта угроза заставляет многих партнеров приостановить отношения с российскими компаниями.
Хотя, говоря о том, что все поставки в и из Россию прервались, западные средств массовой … сильно преувеличивают, выдавая желаемое за действительное. Как сообщают российские металлургические компании, фактически закрылось только европейское направление. На прочих есть трудности с фрахтом, страхованием, финансированием, но эти проблемы в целом решаются в рабочем порядке. Отнюдь не прекратились и импортные операции, в том числе, с продукцией компаний, официально присоединившихся к санкциям. Правда, все зарубежные контрагенты требуют предоплату.
На этом уровне и у России есть свою оружие — нефть, газ и прочие ресурсы. Обстановка, сложившаяся на конец зимы 2021/2022 гг., создала для противника ряд серьезных слабостей. Прежде всего, еще до начала украинского кризиса практически на всех рынках создался дефицит предложения. Газ в Европе начал дорожать в октябре 2021 г. из-за провала региональной ветроэнергетики в третьем квартале. Нефть превысила отметку $90 за т в конце января. На рынке стали рекордный подъем произошел еще в первой половине 2021 г., и с тех пор цены сильно не упали. Алюминий, цинк, медь, никель, палладий тоже в 2021 г. вышли на многолетние максимумы.
Поэтому «отключение» России от международного рынка либо угроза такового, как в случае с природным газом, вызвала панический скачок цен. В конце прошедшей недели спотовые цены на газ в Европе превысили $2000 за 1 тыс. куб. м, нефть «брент» достигла $118 за баррель. Алюминий, поставки которого из России тоже изначально не собирались блокировать (оно все само собой, так сказать, «насралося»), установил абсолютный рекорд, превысив прежний максимальный уровень конца 80-х гг. ХХ века. Никель и цинк поднялись до значений 15-летней давности.
Такой же переполох произошел и на рынке стали. В Евросоюзе корпорация ArcelorMittal взвинтила базовые цены на горячекатаный прокат до 1150 евро за т EXW, лишь немного не достав до рекордной отметки июня 2021 г. Некоторые мини-заводы заявляют, что из-за новых скачков цен на газ и электроэнергию могут приостановить производство. При этом газ в Европе в ближайшие месяцы особенно дешеветь точно не будет.
Турецкие металлурги находятся, можно сказать, в «смешанных чувствах». С одной стороны, они рвутся на рынок замещать продукцию российских и украинских конкурентов. По данным Argus, за неделю, прошедшую с 24 февраля, они заключили экспортные контракты примерно на 1 млн. т проката и полуфабрикатов. К концу недели внешние котировки на заготовку турецкого производства превысили $800 за т FOB, а на арматуру достигли $900 за т.
Однако, с другой стороны, Турция сама была крупным импортером полуфабрикатов и горячекатаного проката из России и Украины, а эти поставки затруднились или прекратились. Кроме того, местным компаниям отчаянно не хватает металлолома. Цены на него скакнули от немногим более $500 за т CFR в конце февраля до около $600 за т. А возможно, вскоре окажутся еще выше.
Индийские и китайские металлурги усиленно задирают вверх цены на экспорте. Китайский горячекатаный прокат за прошедшую неделю подорожал на $60-70 за т и уверенно идет дальше. Индийские компании еще до 24 февраля приостановили внешние продажи, а теперь рассматривают возможность вернуться на рынок… с ценами до $1000 за т FOB и более. Для Европы сейчас и $1100 за т будет за счастье.
Поэтому ситуация на экономическом фронте имеет тенденцию к переходу к позиционной борьбе на истощение. Тут уж — кто не выдержит раньше. Или российская экономика загнется без западного импорта и западных рынков, или взлет цен на ресурсы и усилившийся дефицит обрушат западные экономики в гиперинфляцию либо глубокий экономический кризис. По крайней мере, угроза резкого усиления инфляции в Европе и отчасти в США сейчас весьма реальна, а классические методы борьбы с ней с помощью повышения ставок и сокращения государственных расходов могут иметь крайне неприятные побочные последствия. Причем если западные санкции слабо задевают важнейшие жизнеобеспечивающие отрасли российской экономики, то Европа страдает от подскочивших цен на энергоносители и металлы прямо сейчас.
Конечно, о макроэкономике можно говорить очень много, но ситуация на этом направлении развивается быстро. Уже через неделю обстановка может существенно измениться.
Поэтому переходим к стратегии. Здесь, как ни странно, все не так уж плохо. Да, нынешняя операция отличается огромными издержками и запредельным риском, но шансы на конечный успех есть. Во всяком случае, можно было заметить, что Россию и ранее постепенно обкладывали санкциями и усиливали напряженность на границах. Однако лягушка не стала ждать, пока ее постепенно сварят, а взяла и выпрыгнула, опрокинув кастрюлю и разбрызгав во все стороны горячую воду.
Кризис очень наглядно и остро продемонстрировал, что наш противник реально представляет собой жестко тоталитарную «Империю лжи» воистину библейских масштабов. Возвращаясь к объявляемым западными компаниями разрывам отношений с Россией, можно провести прямую параллель с тем, как те же самые компании ранее покорно внедряли у себя «толерантность», «разнообразие», «устойчивое развитие» и «декарбонизацию», а также принимали установку о том, что на первом месте должна быть не прибыль, а интересы неких «стейкхолдеров».
Возможно, 24 февраля было большой и страшной ошибкой, но разрыв с таким западным миром теперь выглядит необходимым и неизбежным шагом. Собственно, еще в прошлом году Россия столкнулась с импортом инфляции и прочими издержками, вызванными безответственной финансовой политикой западных правительств. Рано или поздно все должно было завершиться сильнейшим кризисом с дальнейшим переформатированием общества в сущий «киберпанк» по Клаусу Швабу с реальным обнулением среднего класса и «цифровым концлагерем». Тенденции на этот счет были достаточно заметными, особенно, во время разгула ковида.
В целом стратегия сейчас определяется там — на/в Украине. Пока сложно сказать, к чему в конце концов приведет следование принципу Наполеона — «Сначала ввязаться в бой, а там посмотрим», но от итогов этого противостояния зависит, будет ли у нас стратегия вообще. Дав слабину, Россия потеряет все. Выиграв первый бой, получит возможность выйти на новый уровень противостояния, сможет получить поддержку потенциальных сторонников в борьбе против западной гегемонии, которые сейчас выжидают и смотрят, чья возьмет.
Правда, внятной альтернативы нынешней модели мировой экономики пока никто не предложил, равно как не совсем понятно, какой станет российская экономика в итоге, если сумеет пережить ближайшие несколько месяцев. Вероятно, все будет создаваться в процессе, как говорил один известный политический деятель прошлого, живого творчества масс.
Здесь очень многое зависит от зарубежных коммерческих партнеров. Позиция Южной Кореи, добившейся исключений из-под действия санкций, Франции, рекомендовавшей своим компаниям не уходить из России, и действия некоторых западных компаний, не рвущих связей с российскими клиентами, показывают, что не все тут безнадежно. Импортозаместить абсолютно все невозможно, поэтому Россия должна сохранить определенный уровень международных связей с дальней стратегической перспективой на создание новой экономической общности в пределах, как минимум, солидной части Земного Шара.
Но тут уже пора переходить на следующий уровень — оперативный. Пока что здесь обстановка неопределенная. Заявлено достаточно много различных мероприятий по поддержке финансовой системы, строительного сектора, ИТ, различных отраслей промышленности. Взят курс на ускорение импортозамещения и расширение его масштабов. Но все это требует сосредоточенной, последовательной, методичной, но при этом весьма срочной работы по созданию новой экономики, способной нормально функционировать в режиме отрыва от западных материалов, технологий и сервисов.
Очевидно, в такой экономике станет больше государства и больше централизованного начала. Рынок останется, но будет более регулируемым. Вероятно, от чисто товарно-денежных отношений приоритеты сдвинутся в сторону солидаризма либо корпоративизма. Провозглашено дальнейшее развитие направления частно-государственного партнерства.
Вообще, соединение централизованного государственного начала и частной инициативы при примате национальных интересов над прибылью может быть очень эффективным. Южная Корея 60-70 гг. подтверждает. Основная проблема здесь заключается в том, что данная система очень строга в управлении и требует квалифицированных и добросовестных кадров.
В целом, именно люди, человеческий капитал, становятся сейчас самым ценным и важным ресурсом. Закрыть большую часть зависимостей России от критического импорта (с учетом сохранения связей с условно дружественными странами) теоретически можно за несколько лет, но для этого потребуются, во-первых эффективная работа штаба, который должен взять на себя управление, координацию и ресурсное обеспечение, а во-вторых, много квалифицированных специалистов, организаторов-управленцев, айтишников, конструкторов, инженеров и т. д.
Однако все это — задачи на будущее, а прямо сейчас все решает тактика. И здесь результаты пока неоднозначные. Приоритет в первые дни был отдан финансовому сектору и перекрытию утечек капитала. Но до сих пор не удается успокоить валютные рынки, а ведь падение рубля представляет собой главный фактор раскрутки инфляции, которую жизненно важно подавить в кратчайшие сроки. В правительстве рассматривают возможности ценового контроля. Причем, это будет распространяться и на первичный рынок металлопродукции, и на металлоторговлю, которой могут быть ограничены наценки. Но для этого необходимо, чтобы рубль крепко стоял на ногах, поставки импортной продукции осуществлялись, а у розничной торговли было поменьше стимулов для поднятия цен на 20-50-100%.
Еще один момент: пока что российские власти воюют «деликатесненько», лишь реагируя на действия противника, имеющего инициативу и пользующегося ею. Никаких радикальных ответных действий за прошлую неделю не предпринималось, у противника сохранялись возможности сделать ход назад. Однако с той стороны шло только дальнейшее нагнетание.
В общем, в первую неделю тактика заключалась, в основном, в минимизации ущерба, без намерения жестко рвать связи (взаимовыгодные и ценные) с западным бизнесом и нанесения противнику по-настоящему сильных ударов. Впрочем, подъем цен на биржах и паника на рынках возникли и так, без нашего прямого участия. А в самом конце недели российским компаниям было рекомендовано приостановить экспорт удобрений и некоторых химикатов, которые очень востребованы в Европе. И этот процесс можно спокойно и вдумчиво развивать.
Впереди — длинные выходные и короткая неделя. Но в определении путей дальнейшего развития ситуации она может оказаться очень важной.
Другие материалы о российском и мировом рынке стали читайте в разделе «Аналитика».
Несмотря на все нынешние трудности, мы по-прежнему приглашаем получить новую информацию, встретиться с коллегами и деловыми партнерами, обменяться мнениями на выставках и конференциях, которые пройдут в 2022 г. В Москве 17-18 марта состоится конференция «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления», а в апреле состоится конференция «Нержавеющая сталь и российский рынок».
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»
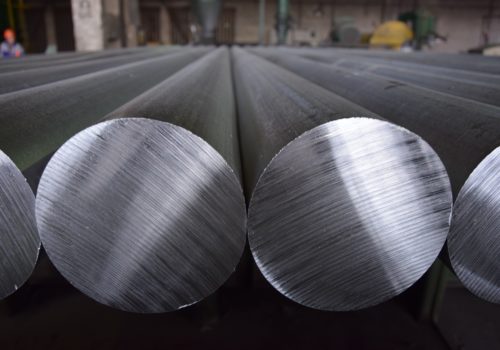
Снова достаточно нервная неделя. Теперь уже и стреляют. Однако для экономики, можно сказать, наступило привыкание. Даже курс рубля был относительно стабильным, а это показатель! Пожалуй, даже кажется, что если Штаты и их «шестерки» таки введут свои супер-пупер-санкции, у нас это не вызовет особых эмоций.
На самом деле, в российской экономике осталось не так уж и много по-настоящему уязвимых позиций. А если удастся продержаться еще 4-5 лет без серьезных конфликтов, то критических зависимостей от импорта может не оказаться вовсе. По крайней мере, работа такая ведется.
Так, на прошлой неделе Общественный экспертный совет по использованию электроники при президиуме правительственной комиссии по ИТ одобрил 8 «сквозных проектов» поддержки российской радиоэлектроники на общую сумму 147 млрд. руб. Еще 11 проектов на 132 млрд. руб. находятся на стадии доработки. Благодаря высоким мировым ценам на нефть и газ деньги в России есть. Хотя с кадрами, да, проблемы…
Вообще, нефть и газ действительно представляют собой «тайное энергетическое оружие России». Неиллюзорная возможность прекращения их поставок в западные страны, похоже, является одним из основных факторов, удерживающих американскую администрацию от введения по-настоящему тяжелых санкций. Иначе бы уже ввели — под любым придуманным предолгом или вовсе без такового.
Дело заключается даже не в том, что «война санкций» приведет к резкому скачку цен на нефть и газ в мире. Западная экономика уже, наверное, лет пять, если не больше, находится на грани кризиса, прикрытая только фасадом видимого благополучия. Сильные стрессы ей противопоказаны.
Ковид благодаря закачанным в финансовую систему триллионам, взятым из воздуха, позволил создать новый спрос и обеспечил сбыт поставщикам ресурсов, производителям товаров и провайдерам ряда услуг (ИТ, логистика). Но решив одни проблемы, он обострил другие. Прежде всего, это рекордная за сорок лет инфляция, причем одновременно спроса и предложения. Это чудовищное нарастание долговой пирамиды, не дающее возможность поднимать процентные ставки в западных странах. Это растущее недовольство собственного населения — события в Канаде это достаточно четко подтверждают.
В общем, горючего материала накопилось много. Но для детонации необходим запал. В 2008 г. им стало банкротство элитного американского инвестиционного банка Lehman Brothers. За 13 с половиной лет второго «Лемана» так и не появилось, но введение широкомасштабных санкций против России и российский ответ на них как раз и могут стать тем событием, что спровоцирует новый глобальный экономический кризис.
Поэтому напряженность остается, но есть достаточно серьезная надежда на то, что грань так и не будет перейдена. Поэтому можно перейти к освещению не фронтовых сводок, а нормальных рыночных процессов.
На мировом рынке резкий подъем первой половины февраля сменяется понижательной коррекцией. Важнейшую роль здесь сыграл Китай. Власти страны чисто административными методами прекратили подъем цен на внутреннем рынке. Если 11 февраля биржевые котировки на прокат и железную руду подскочили до наивысших отметок с августа прошлого года, то к 18-му они отступили обратно до уровня конца января.
Интересно, что перспективы китайской экономики на весну остаются благоприятными. Сигналом ко всеобщему понижению стало заявление Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) о необходимости прекращения спекуляций и недопущении фейковых новостей (надо понимать, слишком оптимистичных прогнозов будущего подъема).
Как бы там ни было, но стоимость железной руды на мировом рынке упала за неделю примерно на 15%. Прекратился рост котировок на заготовку в Восточной Азии. Китайские компании начали предлагать на экспорт горячекатаный прокат по умеренным ценам — почти на $100 за т меньше, чем заламывают индийские металлурги. Еще до китайцев ценовой потолок был установлен у себя вьетнамскими компаниями. Как минимум, до марта стоимость импортных горячекатаных рулонов на местном рынке не превысит $825-840 за т CFR.
Стабилизация, похоже, наступает и в Турции. Металлолом там превысил отметку $500 за т CFR, но местным металлургам не удается адекватно взвинтить цены на сортовой прокат из-за недостаточного спроса. Пожалуй, прекращает дорожать там и лист. В Египте вводят новые правила международных платежей, что, как ожидается, приведет к временному сокращению объемов импорта.
Европейские компании добились некоторого повышения в секторе листового проката и уже несколько недель подряд пытаются нарастить стоимость арматуры и катанки. Но и там относительно слабый спрос препятствует подъемам.
В то же время, на российском рынке стали прошедшая неделя ознаменовалась внезапным и очень резким скачком цен, причем, в основном, по внутренним причинам.
Безусловно, подорожание российского горячекатаного проката на экспорте не менее чем на $120-130 за т с начала года, а заготовки — более чем на $80 за т не могло не оказать мощного влияния на российские цены. Собственно, отечественные металлургические компании и так анонсировали приличное повышение заводских котировок на март. Для горячекатаного проката его масштабы составляют более 10% по сравнению с началом года. Но этим причины роста не исчерпываются.
Прежде всего, российский рынок стальной продукции, как и вся экономика в целом, столкнулся с острым транспортным кризисом. На железных дорогах возникли небывалые заторы. По данным ряда СМИ, в сети «зависли» несколько десятков тысяч вагонов. Перевозки в значительной степени парализованы, так что металлотрейдеры не без оснований опасаются скорого наступления дефицита.
По данным РЖД, причиной завалов стал коронавирус. Хотя «омикрон», как правило, не приводит к серьезным осложнениям, заболевших очень много. Возникла острая нехватка персонала, в частности, локомотивных бригад. У железнодорожного начальства, традиционно экономящего на оплате труда, порвалось в самом узком месте.
Основная проблема здесь заключается в том, что даже если все сотрудники РЖД дружно закроют больничные и вернутся на рабочие места, создавшиеся заторы и завалы быстро не разобрать. Поэтому ситуация с железнодорожными перевозками, по-видимому, останется напряженной на протяжении еще нескольких недель.
Между тем, март и так обещал быть тяжелым месяцем с точки зрения объемов предложения. Всегда было принято считать, что Россия обладает избыточными мощностями по выпуску горячекатаного проката. Но вот все три ведущих производителя останавливают на ремонты (причем, весьма длительные) ряд агрегатов, и рынок начинает задыхаться. Кстати, в последние год-два на меткомбинатах что-то участились простои вследствие плановых модернизаций и просто аварий. Нет ли в этом совпадения, а то и тенденции?!..
Так или иначе, цены на стальную продукцию подскочили, и нет никаких причин для того, чтобы они в обозримом будущем вернулись хотя бы на уровень начала года. В ближайшие несколько недель на отечественном рынке будет сохраняться дефицит, как минимум, листового проката. Ситуация с видимым спросом будет противоречивой. Подъем цен, безусловно, окажет на него негативное влияние — собственно, уже оказывает. Однако в стройке дороговизна арматуры (к слову, гораздо более умеренная, чем листового проката) не должна существенно затормозить приближающееся весеннее оживление.
Чем выше цены, тем больше вероятность нового вмешательства со стороны государства. ФАС и так определила нарушение антимонопольного законодательства меткомбинатами «большой тройки». Кроме того, был сделан исключительно важный вывод о том, что достижение экспортного паритета не является уважительной причиной для повышения цен на российском рынке. Правда, осталось понять, как именно этот принцип можно реализовать на практике.
Хотя, конечно, у всего на свете есть цена, иногда она оказывается слишком высокой.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Рост цен на листовой прокат на мировом рынке был ожидаемым. А вот размах этого повышения — почти 20% за какие-то две недели, если брать индийскую продукцию, — уже как-то напрягает. Котировки подходят к отметке $900 за т CFR, а это уровень осени… или начала апреля прошлого года. И все помнят, что за тем апрелем пришли май и июнь со своими ценовыми рекордами.
Неспокойно стало и у нас. Арматура по 70 тыс. руб. за т и горячекатаный прокат дороже 80 тыс. руб. за т — это мы, похоже, увидим в самое ближайшее время. Однако в прошлом году мы видали цены и повыше. Вернутся ли они снова? Или подъем окажется непродолжительным и завершится скорым спадом?!
Ответы на эти вопросы, по-видимому, надо будет искать за рубежом. Конечно, российский рынок не является точной калькой с мирового, но основные тенденции на них совпадают. Для отечественных металлургических компаний экспортный паритет — это и догма, и руководство к действию. Это снижение экспортных котировок может не сразу отразиться на предложениях меткомбинатов, а вот реакция на рост обычно происходит моментально.
Итак, если вспомнить прошлый год, то основной причиной ценового взлета был тогда избыточный спрос на прокат, возникший благодаря денежной накачке экономик. Тогда этим баловались все серьезные государства в той или иной степени. Металлурги просто не успевали покрыть возросшее потребление. Импортные ограничения в Евросоюзе и США, не позволявшие снять напряженность за счет поставок из-за рубежа, довершили дело и спровоцировали подъем в мировом масштабе.
В принципе, расширение видимого спроса мы видим и сейчас, причем в достаточно широких масштабах. В Китае стартовали Олимпийские игры, и до их завершения экономические вопросы отошли на второй план. Но после закрытия все ждут подъема. После спада во второй половине прошлого года китайскому правительству важно показать, что в экономике страны все нормально.
По наиболее вероятному варианту, в Китае весной будут расти потребление и производство стальной продукции. В то же время, резкого ценового роста, скорее всего, не произойдет. В прошлом году китайские власти продемонстрировали умение управлять рынком стали в ручном режиме, и ничего не мешает им продолжить прежнюю политику. Вероятно, местные цены превысят отметку 5000 юаней ($785-786) за т, но вряд ли намного.
Большинство стран Азии перестали увлекаться ковидными локдаунами. Это означает увеличение спроса на прокат. Для российских металлургов наиболее важно то, что эти процессы наблюдаются во Вьетнаме и Индии. Так что, российский горячекатаный прокат может вернуться на вьетнамский рынок, а перед индийскими производителями больше не стоит задача сбросить накопившиеся излишки на экспорт, как говорится, любой ценой. Наоборот, именно индийцы сейчас больше всех раскручивают повышение.
В Индии сейчас подходит к завершению финансовый год, который заканчивается 31 марта. Реализация не завершенных еще проектов ускоряется, внутренний спрос на прокат достаточно приличный. При этом в госбюджете на 2022/2023 ф.г. прописано существенное увеличение госинвестиций на инфраструктурные проекты. В общем, можно ожидать, что потребление проката в стране возрастет, а объемы его экспорта уменьшатся.
Турции явно пошла на пользу стабилизация валютного курса в январе. А энергетический кризис в конце прошедшего месяца, когда ряд металлургических предприятий простаивали несколько суток, был использован производителями как повод для резкого повышения цен на прокат. Судя по тому, что продажи у металлургов пошли, спрос там есть. В том числе, наверное, и отложенный с прошлой осени. Сдвинулись вверх и котировки на сортовой прокат, что способствовало увеличению стоимости металлолома и заготовки.
Вообще обстановка в турецкой экономике довольно сложная. Инфляция в прошлом году превысила 40%. Поэтому курс лиры в любой момент может снова посыпаться. Правительство понизило процентные ставки, чтобы стимулировать бизнес и поддержать экспорт. Но Турция импортирует практически все нужные ей энергоносители, поэтому внешнеторговый баланс остается катастрофически негативным. Однако есть надежда на то, что хотя бы природный газ и нефть весной немного подешевеют, а курортный сезон не будет сорван. Тогда глубокий минус в торговле товарами можно будет частично компенсировать за счет экспорта услуг.
В Европе корпорация ArcelorMittal на прошлой неделе не стала объявлять о повышении цен на листовой прокат, но от европейских металлургов ожидают скорого возобновления этой политики. Спрос на стальную продукцию со стороны регионального автопрома пока не восстановился, но зато снизилась конкуренция со стороны импорта.
Очень важным фактором для европейских, турецких и отчасти индийских компаний является рост затрат. Собственно, именно он является одной из основных причин ценового подъема на рынке стали. Природный газ в Европе год назад стоил порядка $250 за 1 тыс. куб. м, сейчас его стоимость варьируется от около $850 до более $1000 за ту же единицу объема. Спотовые тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в феврале 2021 г. находились, в среднем, на уровне 50 евро за МВт-ч, сейчас же они скачут от немногим более 100 до свыше 250 евро в зависимости от того, насколько сильно дуют ветры в Атлантике. Стоимость разрешений на выбросы углекислого газа за последние 12 месяцев выросла от 35-40 до 85-95 евро за т.
Ближе к лету тарифы на электроэнергию в Европе могут снизиться, так как возрастет ее выработка на солнечных и ветряных станциях. Однако существенного удешевления природного газа не ожидается. Весну регион встретит с пустыми газохранилищами, которые надо будет снова заполнять, и с хорошим запасом. Кроме того, суета, которую на прошлой неделе подняли американцы вокруг возможного замещения поставок российского газа в Европу, показала, что избытка этого ресурса в настоящее время в мире нет. А существенного расширения глобальных мощностей по сжижению газа предстоит ждать до 2025-2026 гг.
К этому следует добавить относительно высокие цены на металлургическое сырье. Металлолом в принципе перестал быстро подниматься, но существенно дешеветь в обозримом будущем он не станет ни при каких обстоятельствах. Борьба с выбросами углекислого газа делает его ценным и востребованным ресурсом, тогда как объем предложения в большинстве стран чисто физически не может быть быстро увеличен.
Стоимость железной руды в значительной степени будет зависеть от объемов производства стали в Китае. Они наверняка не превысят рекордов первой половины прошлого года, но обещают быть достаточно высокими. В то же время, австралийские экспортеры сырья в последние месяцы сталкиваются с проблемой дефицита рабочей силы. Австралия — одна из немногих стран, где все еще сохраняются жесткие ковидные ограничения. Скорее всего, местный рынок труда еще долго будет оправляться от последствий эпидемии. Поэтому весьма вероятно, что ЖРС снова прибавит и, возможно, превысит отметку $150 за т CFR Китай.
Коксующийся уголь во многом подорожал из-за плохой погоды — наводнений в Австралии и морозов на востоке США и на западе Канады. Кроме того, Монголия и Россия по ряду причине не смогли нарастить поставки этого сырья в Китай. Возможно, весной, когда в Австралии завершится дождливый сезон, уголь подешевеет. Но проблема здесь в том, что всемирная антиугольная кампания, которая проводится в рамках борьбы с глобальным потеплением, затрагивает и коксующиеся марки. В отрасль неохотно идут инвесторы, поэтому есть большие трудности с запуском новых проектов.
В общем, если все подытожить, ситуация получается следующая. Реальное оживление спроса и высокие затраты металлургов на сырье и энергию будут поддерживать рост цен на стальную продукцию, по меньшей мере, в ближайшие два-три месяца. Затем возможны варианты.
Один из важнейших факторов — инфляция. Если в прошлом году это была, в основном, инфляция спроса (во всяком случае, в западных странах), то сейчас наблюдается классическая инфляция издержек. Бороться с ней можно только путем снижения цен на энергоносители и прочие ресурсы, а для этого надо начинать с ограничения объемов потребления.
Важные события здесь ожидаются в марте. Если Федеральная резервная система США повысит ключевую ставку и сократит скупку ценных бумаг с рынка, то еще через пару месяцев мы, скорее всего, увидим некоторое сжатие западных экономик и ценовые спады. Отсутствие борьбы с инфляцией будет означать продолжение подъема. Тогда вполне возможными станут и нефть более чем по $100 за баррель, и горячекатаный прокат дороже $1000 за т.
На российском рынке металлурги настроены на рост, по меньшей мере, до апреля. Масштабы — порядка 15-20% по сравнению с началом года для листового проката и, вероятно, несколько меньше для сортового. Впрочем, в секторе арматуры не исключены скачки вследствие вспышек ажиотажного спроса либо локальных дефицитов.
Дальше, как говорится, — будущее покажет. Либо стабилизация на высоком уровне вследствие начала строительного сезона и понижательной коррекции на мировом рынке, либо разгул инфляции во всемирном масштабе. Однако в последнем случае практически неизбежным станет вмешательство государства с целью ограничения роста внутренних цен.
Риски в этом плане остаются чисто политические. Кризис, эпицентром которого назначена Украина, продолжается, опасность провокаций достаточно высока. Не исключены новые обострения, которые, возможно, будут приводить к кратковременным скачкам курса рубля. Но, честно говоря, санкции, даже если их введут и без какого-либо повода, уже не сильно пугают. Вообще, пар потихоньку уходит в свисток.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»
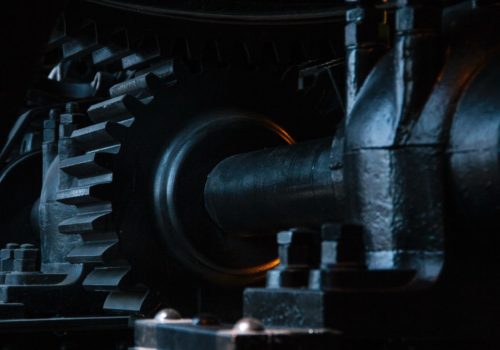
Нет, повышение ставок – это не про политику. Там-то как раз все понятно. Испортят западники китайцам вторую подряд Олимпиаду или не испортят, решатся на провокацию или не решатся, введут ли санкции, отрезающие российские газ и нефть от Европы или не введут – это уже как с тем динозавром, которого можно встретить, а можно – и не встретить.
Не только люди, но и целые общественные формации бывают внезапно смертны, но спишем это на неизбежные жизненные неприятности и риски. Как уже неоднократно отмечалось, мировая экономика пока достаточно слабо реагирует на политическую напряженность, будучи сосредоточенной на собственных проблемах.
А среди них на первое место входит разгул инфляции. Штука эта единогласно признается всеми вредной, и с этим надо что-то делать. И вот, похоже, приближается пора, когда делать таки что-то будут.
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что инфляция в стране может оставаться на высоком уровне в течение всего 2022 г. Поэтому в марте ФРС может приступить к повышению ставок, чтобы добиться ее снижения от 7% в декабре прошлого года до нормального уровня в 2%. С той же целью предполагается прекратить скупку ценных бумаг с рынка, что в 2020-2021 гг. было главным каналом накачки национальной финансовой системы ликвидностью.
По данным агентства Reuters, Европейский центральный банк и Банк Японии пока не собираются отказываться от сверхмягкой денежной политики, но в ряде западных стран уже приступили к повышению ставок либо от них ожидают такого шага в ближайшее время.
Основной риск здесь заключается в огромной закредитованности мировой экономики. Объем совокупного одного только государственного долга в конце прошлого года оценивался в $260 трлн., а есть и еще большая корпоративная задолженность, и деривативы, объем которых исчисляется уже квадриллионами. Сейчас, когда ставки в большинстве западных стран близки к нулю, обслуживание этого массива долгов стоит недорого. Но стоит проценту подняться хотя бы на пару пунктов, и начнутся проблемы.
В январском отчете Мирового банка прогнозируется спад не позднее середины 2023 г., что приведет, наконец, к понижению сильно завышенных цен на сырье и ресурсы. По оценкам банка, во второй половине прошлого года начался процесс торможения темпов роста в США, Европе и Восточной Азии. Да и сам тот подъем был обусловлен, в первую очередь, насыщением экономик деньгами, которое уже постепенно сворачивается. В данный момент западные эксперты довольно оптимистично оценивают перспективы на ближайшее будущее, но во второй половине текущего года ситуация может измениться.
Поэтому угроза новых санкций, под которыми Россия находится уже более полутора месяцев, может сыграть положительную роль. Она создает стимулы для скорейшего и максимального обособления отечественной финансовой системы и экономики в целом от западной. При этом Россия вовсе не оказывается в изоляции. Есть основания ожидать более тесных взаимоотношений с Китаем, выстраивания и укрепления связей с различными государствами Азии, Африки и Латинской Америки.
Кстати, текущая экономическая политика Китая и России обнаруживает известное сходство. В российском правительстве заявляют о расширении инвестиций в железнодорожное и автодорожное строительство, в другие инфраструктурные проекты, о поощрении частных капиталовложений в приоритетные отрасли. Но и китайские власти в течение всего января анонсировали или объявляли меры, направленные на стимулирование экономического роста за счет запуска новых инфраструктурных проектов и увеличения объемов кредитования реального сектора.
В Китае уже все уверены в том, что как только завершатся Олимпийские игры, будут отменены производственные ограничения, направленные на улучшение экологической обстановки, и национальная экономика пойдет на подъем. Под влиянием этих ожиданий на китайском рынке выросли котировки на прокат, а железная руда к концу прошедшей недели достигла наивысшего значения с конца августа – начала сентября прошлого года.
Подорожание сырья вкупе с оживлением внутреннего спроса погнало вверх цены на индийский горячекатаный прокат. Еще недавно местные компании были готовы сбывать его на экспорт по $700-720 за т FOB, а теперь предложения подходят к отметке $800 за т!
Резкое повышение произошло в последние дни и на турецком рынке листового проката. Но тут основная причина заключается в энергетических проблемах, с которыми столкнулась страна в конце января. Из-за приостановки поставок из Ирана в Турции возник острый дефицит природного газа и электроэнергии (к слову сказать, в самом Иране обстановка не менее напряженная). Некоторым турецким заводам пришлось приостановить работу. При этом считается, что весной национальная экономика оживится, а значит, стальная продукция может оказаться в дефиците.
Воспользовавшись индийскими и турецкими тенденциями, а также подорожанием стальной продукции в ЕС, где металлургам тоже надо компенсировать рост затрат на энергию и газ, российские компании анонсировали поднятие экспортных котировок на листовой прокат. А заготовка и сорт повысились у них еще раньше, благодаря активным закупкам полуфабрикатов в Египте, Тайване и Китае. В целом увеличение стоимости стальной продукции достигает $50 за т по сравнению с началом января, а то и больше.
Учитывая, что с тех пор российский рубль несколько ослабел (хотя падение до более 80 руб. за доллар осталось только кратким эпизодом), экспортный паритет для отечественной стальной продукции скакнул куда-то в небеса – до порядка 78 тыс. руб. за т с НДС для горячекатаного проката. Это создает для меткомбинатов весьма действенный повод для того чтобы задрать вверх внутренние котировки.
Однако ничего хорошего российскому рынку это не принесет. Мы вернемся в прошлогоднее состояние или даже еще хуже. Тогда хоть подъем начался в марте и хоть как-то опирался на реальное увеличение потребления. Февральский скачок может оказаться фальстартом, который окончательно запутает рыночную ситуацию. Кроме того, на новый ценовой взлет могут нехорошо посмотреть в правительстве. В прошлом году следование российских компаний за мировым рынком уже завершилось введением экспортных пошлин.
Да, по всем признакам, цены за рубежом в феврале и, скорее всего, в марте будут подниматься. Основания для этого есть. Но говорить об устойчивости и продолжительности этого роста еще рано. Это ведь уже не рост, а инфляция!
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Мировая информационная сфера сейчас, можно сказать, находится в состоянии острой шизофрении и раздвоения личности.
С одной стороны, политическая напряженность просто зашкаливает. Еще немного, и начнут стрелять пушки, полетят ракеты, а на биржах воцарится кавардак. С другой, в экономике, вроде бы, все в порядке. На мировом рынке стали начался рост цен, а в феврале и вовсе ожидается качественное улучшение. Причем тут неприменима сентенция об отделении мух от котлет, поскольку все в мире взаимосвязано.
Поэтому основных версий две. То ли все, что мы видим в последнее время в СМИ, на самом деле представляет собой дымовую завесу, призванную скрыть нечто невообразимо скандальное, что широким народным массам не только знать не положено, но и думать в ту сторону совершенно воспрещается.
Или, второй вариант, громадному динозавру уже откусили башку, но он еще движется вперед, поскольку нервный сигнал об этом прискорбном событии еще не дошел до расположенного у начала хвоста мозгового центра, управляющего конечностями. То есть, обстановка в мире уже коренным образом изменилась, но в экономике все процессы происходят медленно и с огромной инерцией, поэтому долгосрочные последствия этих перемен еще полностью не проявились.
Итак, что мы имеем в наличии? С одной стороны, «хитрый план»… американского глубинного государства, мирового правительства, злобных рептилоидов… лишнее убрать, недостающее добавить.
Выглядит все совершенно убойно и неотразимо. На Донбассе или прямо на российской границе организуется громкая и кровавая провокация, желательно, в начале, во время или на закрытии Пекинской Олимпиады. Западные СМИ, которые в некоторых принципиальных вопросах на 99 и 9 в периоде процентов придерживаются полного единогласия, даже фразы и эпитеты одни и те же используют, поднимают дикий «шум» о российской агрессии. Против России вводятся стр-р-рашные санкции, из-за которых прекращается экспорт российских энергоносителей в Европу. Цены на нефть и газ взлетают до небес.
Европейская экономика терпит крах, китайской, так же зависящей от импорта энергоносителей, сильно нездоровится. США в дамках и в шоколаде. От прекращения поставок чего бы то ни было из России они сильно не пострадают, нефть и газ у них свои, цены на них низкие. Капиталы в панике удирают в самую тихую гавань – естественно, благословенную Америку. Да, в качестве бонуса, в России обвал валютного и фондового рынка, сильные проблемы в экономике вследствие перекрытия критического импорта, беспорядки, а то и смена власти с возвращением в 90-тые…
Все это, конечно, так. Но если подобный план может описать любой диванный аналитик, то и те, кому надо, давно в курсе и, наверняка, продумали способы противодействия. Или, по крайней мере, нанесения неприемлемого ущерба основному противнику… экономического, естественно, без рук, шума и пыли.
Кроме того, против такого плана есть «эстонский» аргумент – «Заш-ш-шэм?!,,» Вот какие цели могут ставить перед собой авторы такой весьма рискованной комбинации?! Разгром европейской экономики и ее разграбление под шумок? А смысл? Экономические отношения между США и ЕС не менее тесные, чем между США и Китаем. Если сделать очень больно одному из партнеров, второму тоже сильно не поздоровится.
Организовать под шумок контролируемый биржевой крах? Сдуть спекулятивные пузыри, обнулить 30-триллионный государственный долг, после чего построить заново и с чистого листа нормальную экономику и финансовую систему? Ну, если альтернативой является неотвратимый крах Америки «вот прямо сейчас», то может быть. Если же нет, то средство как-то слишком сильное. Типа как взорвать ядерный заряд, чтобы вырыть канаву.
Просто некомпетентность американской администрации, не представляющей, с чем играет?! Помесь тупости, инфантилизма и внутриполитической необходимости? Полностью исключить нельзя, но в таких случаях проще ограничиться разборками чисто в контролируемом информационном пространстве – киноклассика доказывает.
Поэтому лучше не гадать, а сосредоточиться на том, что мы можем увидеть и предвидеть с достаточно высокой степенью вероятности.
Энергетический кризис – вот самый крупный «черный лебедь», который все еще продолжает реять над мировой экономикой. Первые две декады января в Европе и Северо-Восточной Азии в целом выдались нехолодными. Поэтому природного газа хватает, и цены на него снизились. Если ранее они сильно зашкаливали за $1000 за 1 тыс. куб. м, то теперь произошел спад до $700-800, что тоже в 2-3 раза превышает нормальный уровень прошлых лет.
При этом сильного падения цен на газ в течение текущего года никто не ожидает. Европейским компаниям, которые весной окажутся с пустыми газохранилищами, придется их заполнять, а это обеспечит повышенный спрос. Китай продолжит наращивать потребление. Прирост новых мощностей по сжижению газа до 2025-2026 гг. будет незначительным по всему миру. Да, в Европе есть «Северный Поток-2». Но введут ли его вообще в строй, а если да, то когда?
Тарифы на электроэнергию в ЕС подскочили на десятки процентов, а то и в разы. Здесь, правда, очень многое будет зависеть от погоды. Прошлый год выдался маловетренным, что и стало одной из основных причин энергетического кризиса – упала выработка на ветростанциях. Если в 2022 г. ситуация с ветрами улучшится, то все будет не так плохо. Европейской промышленности надо будет просто продержаться до весны.
Собственно, именно так, очевидно, оценивают обстановку на европейском рынке стали. Некоторые компании сократили выпуск из-за высоких затрат на электроэнергию и газ, но пока никто из игры не вышел. Все надеются на снижение тарифов весной хотя бы до двукратных по сравнению с прошлым годом. Но самая главная надежда европейских металлургов возлагается на восстановление в автомобильной отрасли.
По данным European Automotive Manufacturers Association (ACEA), в 2021 г. в странах ЕС было продано около 9,7 млн. пассажирских автомобилей, что на 2,4% уступает, казалось бы, совершенно провальному уровню 2020 г. При этом в декабре продажи едва перевалили за 795 тыс. и отстали на 22,8% от графика предыдущего года. В общем, хуже уже некуда. А уже весной есть надежда на долгожданное увеличение поставок микропроцессоров.
Правда, у западных экономик есть ахиллесова пята – ускорение инфляции. Например, в Германии значение индекса цен производителей (PPI) в декабре составило рекордные, как минимум, с 1949 г., 24,8%. Конечно, более половины этого показателя – последствие невиданного скачка цен на энергию и энергоносители перед Новым годом. Но и 10% — это много.
Основная проблема здесь заключается в том, что если начать поднимать процентные ставки, чтобы снизить инфляцию, в экстремально закредитованной мировой экономике это может вызвать острый экономический кризис. А если оставить ставки на нуле, как сейчас, экономика продолжит пухнуть от раздуваемой денежной массы, а инфляция в один далеко не прекрасный момент сорвется в гипер, еще более разрушительный.
В то же время, риски второго варианта можно считать достаточно отдаленными. Кроме того, в последние месяцы основной вклад в инфляционные процессы вносят энергоносители, а весной цены на них должны понизиться. Кстати, очень интересно, что станет в ближайшее время с нефтью. На прошлой неделе она в ходе торгов доходила до $90 за баррель – пора обваливать. Хотелось бы знать, под каким соусом это обстряпают сейчас?!
Таким образом, текущая политическая напряженность может оказаться способом отвлечь внимание от обострения экономических проблем, которые, возможно, ослабят свое действие через два-три месяца. Понятно, риск войны и санкций имеется, и он достаточно высокий, учитывая, сколько ружей развешано по всем стенкам. Но ничего еще не предрешено, а мировая экономика пока что действует практически без оглядки на мировую политику.
Во всяком случае, в Китае все ждут новых мер по стимулированию экономики после Олимпиады. К тому времени, по общему мнению, отменят и большую часть ограничений на выплавку стали. Под влиянием этих ожиданий цены на прокат, железную руду и коксующийся уголь вернулись там на уровень конца октября – начала ноября.
На российском рынке неделя, конечно, прошла нервозно. Было падение курсов акций на Московской бирже, потом отыгранное. Хватает апокалиптических прогнозов возможных последствий отрезания российской финансовой системы от доллара. На низком уровне остается рубль. Санкции нависают со всех сторон – то ли мираж в тумане, то ли айсберг на пути ледокола.
В то же время, Россия находится уже не в том состоянии, чтобы санкции любой степени крутости означали крах ее экономики и финансовой системы. Безусловно, сложных мест хватает. Работа по перенесению на отечественную почву критических производственных цепочек только разворачивается – здесь надо бы продержаться еще хотя бы 3-4 года. Плоховато с импортозамещением по софту, да и с непродовольственными потребительскими товарами работы еще непочатый край – очень мало российских брендов, которые могли бы на равных конкурировать с импортом именно в представлении покупателей. Однако важнейшие позиции жизнеобеспечения закрыты прочно.
Кстати, на Гайдаровском форуме в первой половине января на одной из сессий, посвященных внешней торговле, внезапно был поднят вопрос об интеллектуальных правах зарубежных компаний. Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Россия их безусловно уважает и будет уважать. Но в критической ситуации возможны варианты.
Пока был только один прецедент – по антиковидному лекарству ремдесивир. Иностранная компания, которой принадлежали права на него, не соглашалась снизить несуразно высокую цену для российских потребителей. Тогда правительство России просто взяло и передало лицензию национальному производителю. Само собой, в нормальной обстановке ничего такого против иностранных компаний предприниматься не будет. А в ненормальной?!..
И совсем немного – о российском рынке стали. Повышение цен на заготовку и сорт за рубежом, отказ индийских металлургов от демпинга и некоторое увеличение их экспортных котировок на горячекатаный прокат, а также ослабление рубля создали более благоприятные условия для отечественных меткомбинатов и мини-заводов. Поэтому заводские цены на стальную продукцию в феврале, скорее всего, немного поднимутся.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Праздники завершились, и пошла работа без раскачки. Началось все, конечно, с посиделок в Женеве, где все пошло точно по пословице: «Дураку закон не писан, а если писан, то не читан, а если читан, то не понят, а если понят, то не так». Впрочем, ожидать иного было сложно.
Теперь, по идее, должно последовать продолжение. Однако пока что рынки сохраняют на этот счет полное спокойствие. Только рубль к концу недели заметно просел. Но это дело такое. На валютной бирже у нас обитают, в основном, такие интересные зверьки, которые реагируют только на негативные новости, даже потенциальные и воображаемые. А вот то, что нефть опять подорожала до более $85 за баррель, там, конечно, никто не соизволил заметить.
Между тем, в российском правительстве настроены совершенно спокойно и по-рабочему. Это, в частности, показал очередной Гайдаровский форум, состоявшийся 13-14 января в онлайновом режиме. Там было сказано много важного и интересного, но более подробно об этом можно будет прочитать через пару-тройку недель в февральском номере МСС. Если же пройти по основным тезисам, картина получается следующая.
«Период адаптации к вызовам пандемии завершен, — заявил в обращении к участникам форума премьер-министр Михаил Мишустин. — Можно и нужно двигаться дальше в рамках национальных целей развития… Мы приняли единый план. Он объединил мероприятия в рамках национальных проектов, государственных программ, а также 42 новых стратегических инициатив, которые необходимы для достижения национальных целей».
Таким образом, если не случится чего-либо совсем из ряда вон выходящего, коронавирус перестанет оказывать значимое воздействие на российскую экономику. Кампания по вакцинации, безусловно, будет продолжаться, но тотальной QRизации и новых локдаунов, скорее всего, уже не будет.
Одна из основных целей — выход на стабильные темпы экономического роста выше 3% в год. Причем этот рост должен быть «качественным» и сопровождаться соответствующим повышением уровня благосостояния населения. Основным его источником названы частные инвестиции.
Государство здесь берет на себя множественные роли. В частности, оно само будет активно выступать в качестве инвестора, прежде всего, в инфраструктуру, оказывать разностороннюю поддержку инвесторам, создавать благоприятный деловой климат.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на форуме, не мог не заметить, что доля государства в российской экономике слишком велика. Однако тут напрашивается вопрос: а где именно он бы хотел, чтобы она стала меньше?! Государство в России — это энергетика (возвращение к рыночной реформе по Чубайсу — спасибо, больше не надо!), ведущие нефтегазовые компании (помним «скважинную жидкость» и соглашения СРП с иностранцами), важнейшие коммуникации (нет, РЖД лучше оставаться единой и под госконтролем), оборонная промышленность (вспоминаем 90-е годы как страшный сон), некоторые важнейшие отрасли машиностроения (судостроение, аэрокосмос — вспомним 90-е еще раз и содрогнемся), несколько крупнейших банков (кто-то думает, что в частных руках «Сбер» будет работать лучше?!). В общем-то, всем этим направлениям приватизация противопоказана. Ибо.
В России не государства в экономике слишком много, это частного сектора слишком мало! Причем большая и лучшая его часть продолжает использовать задел, оставшийся еще с советских времен. Широкомасштабное строительство новых современных предприятий мирового уровня началось в таких отраслях как металлургия, химия, автомобиле- и машиностроение только в последние 10-12 лет. И надо, чтобы таких проектов стало больше!
Как отметила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, деньги у компаний есть, кредиты — не проблема, главное — нет желания брать на себя акционерный риск. Это, по ее мнению, и есть главный фактор, сдерживающий инвестиционный процесс в России. А заодно, наверное, и одна из основных причин вывоза капитала. Если его стремновато использовать дома, он будет работать за границей. Значит, надо снижать риски за счет совершенствования законодательства, уменьшения неопределенности, активизации частно-государственных партнерств.
Основные риски для российской экономики имеют внешний характер. По мнению членов экономического блока правительства, рост инфляции в глобальном масштабе — это всерьез и надолго. Ковид способствовал тому, что правительства многих стран начали заливать свою экономику деньгами, наращивать расходы и копить долги. В итоге в США потребительская инфляция в декабре достигла нового максимума с 1982 г., а индекс цен на необработанные товары для промежуточного спроса (первое звено в производственно-сбытовых цепочках) — с 1948 г.!
От этой политики, вроде бы, надо отказываться — бороться с инфляцией путем повышения ставок, изживать бюджетные дефициты, переходить к жесткой денежной политике. Но никто в мире не знает, как это сделать, не обвалив экономику в кризис. Нынешнюю ситуацию можно сравнить с нефтяным шоком 70-х гг., но тогда из него вышли за счет займов. Сейчас же общий долг мировой экономики, по словам министра финансов Антона Силуанова, достиг 260% от глобального ВВП. И наращивать эту пирамиду больше нельзя.
Поэтому защита от «импортируемой» инфляции является одной из важнейших задач правительства на 2022 г. Здесь будут по-прежнему применяться чрезвычайные краткосрочные меры — демпферы, экспортные пошлины, элементы ценового контроля, без этого не обойтись.
Но нынешняя инфляция имеет комплексный характер. Это одновременно инфляция спроса (избыточные деньги в системе), инфляция предложения (рост затрат на энергию, разрыв глобальных кооперационных цепочек) и структурная инфляция (энергопереход как новый источник роста расходов). Поэтому и бороться с ней над комплексно, с помощью долгосрочных мер по созданию здоровой экономики без перекосов, с расшивкой узких мест и не только путем зажимания спроса, но и посредством расширения предложения.
Здесь важнейшую роль будет играть снижение зависимости российской экономики от критического импорта. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, сейчас начинается переход к «Импортозамещению 2.0». Если ранее приоритетом было освоение производства передовой промышленной продукции, то теперь ставится задача переносить на российскую почву полные производственные цепочки, начиная от сырья, материалов, комплектующих и заканчивая НИОКР и созданием новых технологий.
Тут правда, есть некоторое противоречие, обусловленное политикой. С одной стороны, под угрозой торговой блокады Россия идет к некоторой автаркии. С другой, поощряется более широкое участие российских компаний в международной кооперации. При этом конечной целью движения в этом направлении заявляется выступление наших производителей в качестве EPS-контракторов, которые строят за рубежом заводы под ключ, дирижируя оркестром российских и зарубежных поставщиков. Кстати, в качестве положительного примера Денис Мантуров привел недавнее строительство Ташкентского металлургического завода группой «Метком».
Новое важное направление — ESG, энергетический переход и климатическая политика. Здесь Россия принимает международную повестку, навязываемую западными странами, хотя и планирует провести собственное комплексное исследование, чтобы оценить реальное влияние выбросов парниковых газов на климат.
Так или иначе, российским экспортерам придется действовать на мировом рынке с растущим климатическим уклоном. А, как известно, с волками жить — учи волчий разговорник. Однако в России принят крайне мягкий подход по отношению к промышленности, от которой пока что требуется лишь считать свои выбросы, а не платить за них (тут, однако, все еще впереди). Вообще, главную ставку Россия делает на поглощение углекислого газа с помощью своего лесного фонда.
И тут главная задача — добиться, чтобы ее усилия реально засчитывались на мировом уровне, а российские компании могли получать освобождение от углеродных тарифов на основании реализации своих климатических проектов. Для этого проводится огромная работа по созданию международно признанной системы верификации и учета углеродных кредитов.
Кроме того, Россия готова поучаствовать в работе новых рынков в качестве поставщика водорода, солнечных панелей, ветроустановок и электротранспорта. И вообще, как отметил министр экономики Максим Решетников, если сокращать выбросы углекислого газа, то делать это надо там, где эффективно, а не там, где считают идеологически правильным европейские политики.
От политики с макроэкономики можно теперь перейти к делам металлургическим. Первая неделя после возвращения с каникул не сопровождалась существенными ценовыми изменениями на рынках стальной продукции, но принесла новые тенденции. Причем в России и за рубежом они оказались совершенно различными.
Так, позитивненько начался год для отечественных экспортеров заготовки и сортового проката. В Турции с января цены на природный газ подскочили на 50%, а тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей — более, чем в 2,2 раза. Поэтому местным металлургическим компаниям пришлось срочно увеличивать стоимость своей продукции.
Турция — известный законодатель мод на всем Ближнем Востоке, так что по всему региону произошел рост цен. Российская заготовка, в частности, уже котируется выше $600 за т FOB, вернувшись на уровень более, чем месячной давности. К этой отметке могут выйти и дальневосточные поставщики вследствие оживления спроса в Китае.
В секторе сортового проката — свои причины для оптимизма. Европейские производители данной продукции всеми силами пытаются организовать повышение. Газ более чем по $1000 за 1 тыс. куб. м и электроэнергия по 150-250 евро за МВт-ч — это сурово. Энергетические проблемы возникли и у украинского ДМЗ, а у «АрселорМиттал Кривой Рог» вспыхнул конфликт с властями с арестом счетов и прочими «радостями жизни». Соответственно, конкуренция на рынке ослабевает.
Однако в России, где год стартовал с небольшого подорожания арматуры, ситуация другая. Причем росту она, в целом, не слишком способствует. Холодная и многоснежная зима сузила спрос на прокат строительного назначения, дефицита нет и в помине, лом потихоньку дешевеет, а в сбытовой сети некоторых металлургических компаний скопились изрядные запасы. Конечно, когда за рубежом ценовой рост, в России спада не бывает, но для нового повышения в секторе арматуры, казалось бы, и нет особых причин.
С листовым прокатом все складывается с точностью до наоборот. В России его небольшое подорожание в целом оправдано из-за ограниченного объема предложения листа. А вот за рубежом цены падают вследствие агрессивных действий индийских металлургов. За последние три недели они понизили экспортные котировки на горячекатаный прокат на $20-30 за т. Причем, их продукция заполняет почти все доступные рынки, словно идеальный газ. В принципе, российские компании ждут улучшения в Азии в феврале, после китайского Нового года. Однако может оказаться, что к тому времени рынок накушается индийскими рулонами на пару месяцев вперед.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Подходит к завершению 2021 г. Был он непростым, в чем-то сложным, в чем-то очень денежным для многих российских металлургических и металлотрейдерских компаний. Трагичным, не без этого: коронавирус продолжает собирать страшную дань «избыточных смертей», среди которых порой, увы, оказываются и наши близкие.
Однако этот год, так или иначе, проходит. При этом завершается он совсем в иной рыночной и экономической ситуации, чем начинался. Прогнозы — конечно, сложное и неблагодарное занятие, но ряд наблюдающихся сегодня тенденций и процессов, вероятно, станут определять и наше ближайшее «завтра»… само собой, если не произойдет каких-либо новых неожиданностей глобального масштаба.
На пресс-конференции президента экономике было уделено не самое большое внимание. Есть проблемы посерьезнее и дела поважнее. Впрочем, именно с нее и начался тогда разговор.
Итак, плюсы уходящего года. Солидные темпы экономического роста, пусть даже и восстановительного после спада 2020 г. Впрочем, докризисные показатели превышены по большинству отраслей. Ожидаемое увеличение инвестиций в основной капитал на 6% по сравнению с предыдущим годом. Может, и не очень много, но этот показатель растет быстрее, чем ВВП.
Главным экономическим локомотивом уходящего года стала стройка. Президент назвал 90 млн. кв. м введенного в строй жилья, но окончательный показатель, вероятнее всего, будет еще выше. Резкое увеличение капиталовложений произошло в секторе инфраструктурного строительства.
Идет реальная работа над повышением производительности труда. Компании, которые принимают участие в соответствующем национальном проекте, подтвердят, что это приносит реальные результаты. У нас принято ругать нашу бесхозяйственность, зато какой это огромный ресурс для повышения эффективности!
Основные риски для российской экономики в 2022 г. будут иметь внешний характер. Но риски это весьма серьезные. Некоторые из них, по-видимому, будут напрямую связаны с политикой. Западные деятели, можно подумать, перешли на новую стадию, где даже пресловутых «хайли лайкли» больше не требуется. Сами придумали новую российскую угрозу, сами сделали вид, что испугались, сами ввели превентивные санкции. Однако недавнее обращение российского МИДа к США и НАТО показывает, что ситуация реально критическая. И обострение противостояния — один из весьма вероятных сценариев.
При этом надо учитывать, что возможно готовящиеся где-то кровавые провокации направлены не только против нас, но и против европейской экономики, на которую с гарантией лягут все издержки, случись что. За последние годы европейские лидеры и так напринимали столько решений в духе «суицид спешиал», что этот бесконечный ужас вполне созрел для ужасного конца.
В предпоследнюю неделю 2021 г. стоимость природного газа в Европе доходила до новых пиков — более $2100 за 1 тыс. куб. м, а электроэнергия для промышленных потребителей превышала во многих странах отметку 400 евро за МВт-ч. Перед Рождеством цены на газ, правда, упали до менее $1400 за 1 тыс. куб. м — это, наконец, подул ветер, а полтора десятка газовозов, привлеченных выгодными условиями, повернули в европейские порты. Но разве это было последнее похолодание и последний период безветренной погоды этой зимой?!
Самое главное, что даже фьючерсные контракты на конец второго квартала 2022 г. — традиционный период самых низких цен на газ — доходили до $1000 за 1 тыс. куб. м. А контракты на покупку электроэнергии «на год вперед» на германской бирже EEX достигли 250-320 евро за МВт-ч, чего ранее никогда не случалось. По-видимому, европейские промышленники начали понимать, что возвращения к нормальным ценам в обозримом будущем не произойдет.
Вообще, европейские специалисты надеются, главным образом, на то, что где-то весной-летом 2022 г. региональные автомобилестроительные компании, наконец, получат вволю дефицитных микропроцессоров и смогут, наконец, загрузить на полную свои конвейеры и нарастить заказы на автокомпоненты. Вот тогда и металлургической промышленности, и всей региональной экономике сразу станет лучше. Надежды — это всегда хорошо. Но что, если они не оправдаются?!
Пока что энергетический кризис бьет, в основном, по европейской периферии. Широкомасштабные отключения происходили лишь в Балканских странах. Да в Турции власти попросили металлургов на пару дней приостановить выплавку стали, чтобы снизить потребление дефицитной электроэнергии. Однако некоторые европейские мини-заводы уже заявляют о необходимости срочного повышения цен на сортовой прокат в январе хотя бы на 100 евро за т, чтобы компенсировать рост затрат. А если повышение не получится (потребители пока эту идею не слишком воспринимают), следует рассмотреть варианты с ограничением или сокращением производства.
Один из основных экономических рисков для российской экономики, безусловно, заключается в разбалансировке мировых процессов. Повышение инфляции в западных странах до 40-летних максимумов — это тоже достаточно серьезно. Как считает президент, Федеральной резервной системе США придется что-то делать. И такого мнения, кстати, придерживаются и многие западные эксперты.
Повышение процентных ставок в борьбе с инфляцией — это сильное средство с неприятными «побочками». И не факт, что западным экономикам его прямо так сразу пропишут. Но с очень большой вероятностью они не решатся и на инъекцию в финансовые системы новых триллионов антиковидных стимулов и компенсаций. Значит, потребительский бум годичной давности почти неизбежно сменится потребительским спадом.
Еще одним негативным фактором для экономики может стать коронавирус. С распространением нового штамма «омикрон» обстановка снова ухудшилась. В ряде западных стран, где началась новая вспышка заболеваемости, объявлены локдауны. Ковид считается основным риском для Китая с его политикой «нулевой толерантности» и других азиатских стран в 2022 г.
Обострение эпидемии, пожалуй, представляет собой наиболее серьезный внутренний риск для российской экономики. Причем, учитывая низкие темпы вакцинации и коварство вируса, эта проблема, очевидно, не будет решена в 2022 г., а скорее всего, и в 2023 г. Ковид — это надолго. Причем возможности государств по выделению денежных компенсаций наносимых им потерь будут становиться все более скромными.
В последние месяцы проблемой для российских компаний стало сужение спроса на их продукцию на внешних рынках. Она может оказаться долгосрочной, хотя кое-какие проблески здесь в последнее время появились.
В первую очередь, это, понятно, Турция. Президент Реджеп Эрдоган совершил маленькое чудо, остановив падение местной валюты и добившись ее отскока от более 18 до 11-12 лир за доллар. Правда, это если не вспоминать о том, что еще в начале октября доллар стоил менее 9 лир. Впрочем, «чудесное» укрепление лиры, по данным биржевых комментаторов, является плодом массированных интервенций турецкого Центрального банка и крупных госбанков, обещаний гарантий для вкладов в лирах и заявлений о разработке новой экономической политике, каковая обеспечит Турции положительный торговый и платежный баланс. План не из категории «зайчики, станьте ежиками!», но близко, близко…
В последние дни турецкий рынок стали, несколько недель лежавший в нокауте, слегка оживился. Местные металлургические компании закупили несколько партий металлолома, добившись его нового понижения до $453-463 за т CFR, и соответственно опустили котировки на сортовой прокат. Как говорится, заготовке приготовиться! Однако пока нет уверенности в том, что Турция действительно прошла пик своих неприятностей.
Повышение цен продолжилось на прошлой неделе в Китае. Оно тоже целиком базируется на ожиданиях того, что после Нового года (1 февраля) и Олимпийских игр правительство КНР займется обеспечением стабильного роста и подкормит экономику новыми стимулами. А для металлургов где-то с апреля будут отменены или хотя бы ослаблены ограничения на выплавку чугуна и стали.
Что же, возможно, так оно все и произойдет. Но этого «прекрасного будущего» еще надо дождаться. Пока что же китайские металлургические компании продолжают понемногу понижать экспортные котировки на горячекатаный прокат. По данным Argus, их средний уровень опустился на прошлой неделе ниже отметки $760 за т FOB. Аналогичную ценовую политику проводят и индийские металлурги. Заготовку китайцы при этом вроде бы готовы покупать с поставкой в феврале-марте, но не готовы дорого за нее платить.
На российском рынке под Новый год немного приподнялись спотовые котировки на арматуру и листовой прокат, а металлургические компании анонсировали небольшие повышения на январь. Пока особого избытка предложения не наблюдается, хотя с февральскими экспортными контрактами у производителей могут возникнуть проблемы. Впрочем, и на мировом рынке существенные изменения в ближайшем будущем маловероятны. Низкий спрос компенсируется высокой себестоимостью, поэтому нынешние цены можно назвать относительно равновесными.
Как заявил на пленарной сессии Государственной Думы министр Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ не ожидает резкого изменения мировых цен на металлы в следующем году. При сохранении нынешних тенденций с этим можно согласиться. Общее направление движения вследствие недостаточного спроса в ближайшие месяцы будет направлено в сторону понижения, но спад не будет значительным.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Прошедшая неделя включила в себя такие события как новый скачок цен на природный газ, повышение процентной ставки в России, пролонгация ее в США и снижение в Турции, оживление на китайском рынке черных металлов, объявление о новой отсрочке в процессе сертификации «Северного потока-2», неожиданное подорожание арматуры и многое другое. Конец 2021 г., судя по всему, получится достаточно беспокойным.
Итак, энергия в ряде регионов становится очень дорогим удовольствием. На прошлой неделе цены на природный газ в Евросоюзе подскочили до $1500 за 1 тыс. куб. м и выше. На какое-то время Европа вышла в ценовые лидеры, а в СМИ появилась новость о том, что некая компания повернула газовоз, идущий в Японию, к европейским берегам. Но буквально на следующий день сжиженный природный газ в Северо-Восточной Азии поднялся до более $1600 за 1 тыс. куб. м, и все вернулось на круги своя.
Вместе с газом по всему миру пошел вверх энергетический уголь. Тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в большинстве стран Евросоюза снова достигли 250-400 евро за МВт-ч. Причем пришло четкое понимание, что такая свистопляска будет продолжаться, как минимум, до весны.
Корпорация ArcelorMittal объявила о повышении базовых цен на сортовой прокат в Европе на100 евро за т, чтобы компенсировать возросшие затраты на электроэнергию. А в январе котировки могут быть подняты еще на 100 евро за т. Ряд мини-заводов в регионе вернулись к практике работы в ночную смену, когда тариф на электроэнергию минимальный. Бельгийская компания Nyrstar объявила о временном закрытии еще одного цинкового завода, на этот раз во Франции, где из-за технических неполадок были остановлены два атомных энергоблока.
Как отреагировала Европейская комиссия на новый газовый кризис?! Естественно, заявила о необходимости скорейшего отказа от использования природного газа, особенно, российского. В Брюсселе опять повторили октябрьские мантры о необходимости централизованных закупок газа от имени всего Евросоюза и создания общеевропейской сети газовых хранилищ, очевидно, тоже под централизованным контролем Еврокомиссии. Кроме того, было заявлено о необходимости прекращения действия всех долгосрочных контрактов на приобретение природного газа к 2049 г.
Правда, чтобы организовать централизованное снабжение импортным газом всего ЕС, Еврокомиссии следует ликвидировать такую ненужную вещь как суверенитет стран-членов, конфисковать газохранилища (впрочем, немалая их часть принадлежит «Газпрому» и его партнерам, так что эта идея пойдет на ура) и вложить солидную такую сумму в расширение европейской сети газопроводов и интерконнекторов. При том, что Еврокомиссия в настоящее время считает новые проекты газопроводов делом сугубо вредным и не нужным, так как страны ЕС к 2050 г. откажутся от «грязного» газа и перейдут на кристально чистый «зеленый» водород.
Между тем, в данный момент дела с замещением природного газа возобновляемыми источниками идут как-то не так, как надо. В Северном море опять начался штиль. В частности, в первую половину дня 17 декабря британские морские ветроэлектростанции совокупной установленной мощностью 15 ГВт выдавали… всего 0,66 ГВт, что составляло около 1,74% от общенациональной генерации. Газовые электростанции, к слову, обеспечивали в тот момент 59,5% выработки. А солнечные, которых, как ни странно, в Великобритании насчитывается более 14 ГВт, были на нуле из-за плохой пасмурной погоды.
Адепты секты борцов с глобальным потеплением на это отвечают, что нужно ставить не 15 ГВт, а 300 ГВт ветряных мощностей, чтобы даже в безветренную погоду они выдавали необходимые объемы электроэнергии. А другое время, когда ветер дует лучше, все эти установки можно перенацелить на питание электролизеров для выработки водорода. Идея по-своему логичная, вот только в какие бешеные триллионы обойдутся создание и эксплуатация такой многократно избыточной энергосети?!
Все это, может, было бы немного смешно, если бы не было так грустно. На самом деле, сверхвысокие цены на газ и энергию в Европе и Восточной Азии не сулят нам ничего хорошего. Увеличение затрат европейских и азиатских компаний трансформируется в рост цен в России на импортные, импортозамещающие, экспортные и любые другие товары. Так, например, вице-премьер Марат Хуснуллин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам доложил президенту о росте цен на абсолютно все стройматериалы в 2021 г. на десятки процентов. Причем стройка отнюдь не представляет собой некое исключение из правил.
Центральный банк РФ, как водится, взял под козырек и мощно поднял ключевую процентную ставку сразу на 1 п.п., доведя ее до 8,5% годовых. И это еще, вероятно, не последнее повышение. В заявлении Центробанка дежурно говорится, что ставку поднимают в целях борьбы с инфляционными ожиданиями, однако в условиях нарастания инфляционных процессов по всему миру это похоже на попытку остановить танк, схватив его сзади за гусеницу.
В США потребительская инфляция по итогам ноября достигла максимального значения за последние 41 год. Правда, это только 6,8% годовых, но динамика вполне однозначная. Между тем, американский Конгресс снова повысил потолок государственного долга, доведя его до $31,4 трлн., а ФРС США на очередном заседании оставила без изменений свою ставку на уровне 0-0,5%.
Вот скажите, как с этим бороться?! Особенно, когда перед глазами — пример Турции, где Центральный банк, наоборот, понизил свою ключевую ставку на 1 п.п. Местная валюта и так снижалась, а после этого ей вообще конкретно поплохело. Если еще неделю назад за доллар давали немногим более 13,7 лиры, то на торгах 17 декабря курс достигал более 17 лир за доллар. Падение за неделю превысило 20%.
В то же время, следует отметить, что в западных странах инфляция сейчас больше наблюдается на потребительском рынке и в отпускных ценах предприятий, тогда как цены на ресурсы (кроме энергетических) расти перестали. На мировом рынке стали, например, в последние несколько недель происходит понижение.
В частности, стоимость горячекатаного проката во Вьетнаме опустилась до менее $800 за т CFR. Очевидно, в ближайшее время на этой отметке окажутся котировки на данную продукцию в Турции и странах Персидского залива. Поставщики из Индии, России, Украины, Китая продолжают сбавлять цены из-за слабого спроса. При этом российские меткомбинаты не без оснований опасаются, что на февраль им не удастся набрать нужного объема внешних заказов. Это может привести к избытку предложения горячекатаного проката в России и понижению цен как на саму листовую продукцию, так и на сварные трубы.
Заготовка в странах Ближнего Востока, в свою очередь, снижается по направлению к отметке $600 за т CFR. От дальнейшего падения ее удерживает, прежде всего, относительно высокая стоимость металлолома. Турецкие компании сейчас не могут платить за него дорого, но и экспортеры из Евросоюза и США не готовы продавать его дешево.
На рынок заготовки вернулся Китай! На прошлой неделе было зафиксировано несколько сделок. Правда, увы, при ценах порядка $600-620 за т CFR с поставкой из Ирана и Индонезии. С точки зрения российских компаний, это пока маловато.
Впрочем, обстановка на китайском рынке стали и в экономике в целом улучшилась. Власти КНР пока только заявляют о необходимости обеспечения стабильного развития, но местные специалисты уже ожидают принятия нового стимулирующего пакета после китайского Нового года и Олимпиады. Правда, в депрессивном состоянии останется сектор жилищного строительства, которому явно устраивают «мягкую» (или не совсем) посадку. Многострадальная компания Evergrande таки допустила дефолт по некоторым обязательствам, и теперь к ней в очередь выстраиваются кредиторы.
В российской стройке пока все в порядке. Особенный подъем в этом году наблюдается в секторе инфраструктурного строительства, но и жилищное не сильно отстает. Правда, после урезания программы льготной ипотеки в июле резко упало количество новых строек, но это отрасль почувствует не ранее второй половины будущего года. Пока что реализуются многочисленные проекты, которые запускались в конце 2020 г. и первом полугодии 2021-го.
Ряд компаний в Москве на прошлой неделе даже попробовали поднять цены на арматуру на споте, которые к тому времени оказались ниже заводских. Некоторые участники рынка называют это чистой спекуляцией, но продолжавшееся несколько недель падение остановить удалось. Правда, дальнейшее развитие событий во многом будут определять сбытовые структуры металлургических компаний. Для производителей сейчас важно обеспечить загрузку мощностей, а цена поэтому порой оказывается второстепенным вопросом.
В принципе, дефляция — явление вредное и неприятное. Но лишь в том случае, когда ее причина заключается в падении платежеспособного спроса. Именно этот процесс происходит сейчас на мировом рынке стали. На нынешнем российском основная проблема лежит, скорее, в избытке предложения из-за недостаточного объема внешних поставок. Внутренний же спрос обещает быть в ближайшие месяцы вполне приличным.
Безусловно, из-за очередного повышения процентных ставок страдает и будет страдать малый и средний бизнес. Но его интересами у нас начали жертвовать еще в 2014 г., и с того времени ничего не изменилось. В то же время, у российского государства есть деньги, и оно не стесняется их тратить, в частности, на инфраструктуру и поддержку крупных проектов. Да и от большого бизнеса ждут расширения инвестиций. Как заявлял, в частности, вице-премьер Андрей Белоусов, до 2024 года планируется заключить не менее тысячи СЗПК с общим объемом капиталовложения порядка 14 трлн руб. И это как раз будут реальные проекты, а не иллюзии!
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

В течение прошедшей недели ни на рынке стали, ни в экономике в целом не происходило каких-либо важных событий. Может, это затишье перед бурей, но оно пока продолжается. Действовавшие ранее тенденции развиваются без особых помех.
На мировом и российском рынке стали прошла еще одна неделя медленного спада, основной причиной которого является недостаточный спрос. С инфляцией таки, похоже, будут бороться в глобальном масштабе, а это означает снижение темпов экономического роста или вовсе переход к депрессии и кризису.
Конечно, обстановка может измениться, но в ближайшее время никто не ждет перемен. Разве что весной, когда, возможно, отменят ограничения на производство стали в Китае, немного нормализуется ситуация в автомобилестроении и транспортном секторе, отступит вездесущий коронавирус… Правда, до весны еще надо дожить.
Погода на сегодняшний день является одним из факторов, которые способны, как говорится, резко перевернуть доску. Сильное и продолжительное похолодание, да еще с безветренной погодой может запросто спровоцировать кризис в Западной Европе, Северо-Восточной Азии или США.
Впрочем, у американцев любые неприятности будут локальными, Китаю и другим азиатским странам не привыкать к погодным экстремумам, а вот в Европе возможны более серьезные последствия: слишком уж малы там резервы прочности. Если в начале декабря стоимость природного газа стабильно превышает отметку $1000 за 1 тыс. куб. м, а тарифы на электроэнергию достигают 200 евро за МВт-ч, это не нормально. Так и хочется добавить: «То ли еще будет!..» Но если будет, то не сегодня. Не сейчас.
С нефтью снова все в порядке. Теперь она, скорее, опять поднимется до $80 за баррель, чем опустится обратно к отметке $70. Вообще, энергетические кризисы последних месяцев показали, что традиционные энергоносители еще рано сбрасывать со счета. И, может быть, это «рано» продлится еще лет двадцать или тридцать, как бы ни злобствовало международное климатическое лобби. Все-таки холодная погода при дефиците энергоносителей и электроэнергии – это очень веский аргумент в пользу традиционной энергетики как более надежной.
На World Petroleum Congress, который состоялся в начале декабря в американском Хьюстоне, главенствовала та точка зрения, в соответствии с которой нефть, уголь, атомные реакторы и природный газ в ближайшие десятилетия будут сосуществовать с возобновляемыми источниками энергии, не вытесняя друг друга, а взаимодействуя. Поэтому, возможно, не стоит подчинять абсолютно все интересы борьбе с выбросами углекислого газа и сосредотачиваться исключительно на углеродной нейтральности и энергопереходе. В мире есть и более насущные проблемы.
Одна из них заключается в том, что глобальная экономика просто замерзает. На рынке нарастают излишки невостребованной стальной продукции. И хотя высокие затраты металлургических компаний тормозят падение, цены постепенно и неуклонно спускаются все ниже. В начале декабря индийские и украинские горячекатаные рулоны стоили на экспорте менее $800 за т FOB. А необходимость поиска новых рынков сбыта может легко опустить котировки ниже отметки $750 за т.
В Турции снова подешевел металлолом. Правда, этот спад основан только на одной сделке, но уменьшение цены на $20 за неделю – это серьезный довод. Возможно, под его влиянием заготовка отечественного производства соскользнет ниже $600 за т FOB или же турецкие компании начнут продавать арматуру менее чем по $700 за т. Падение курса местной валюты замедлилось, но не остановилось, она подошла к отметке 14 лир за доллар.
Некоторое улучшение показал на прошлой неделе Китай. На заседании Политбюро 6 декабря было заявлено, что приоритетом на 2022 г. является стабильный экономический рост. Государство несколько ослабило денежную политику. В промышленность и строительный сектор страны должно пойти больше финансовых ресурсов. Под влиянием этого фактора в Китае подорожала стальная продукция и железная руда, прекратилось падение цен на коксующийся уголь.
Правда, устойчивого подъема в Китае пока нет. Биржевые котировки могут двигаться как вверх, так и вниз. Очевидно, что китайские власти не намерены снова устраивать в стране экономический бум, основанный на кредитах и государственных капиталовложениях. И вытягивать на себе мировую экономику Китай точно не собирается. Похоже, ближайшие месяцы в стране будут происходить под знаком приближающейся Олимпиады, и только после ее завершения, когда степень свободы китайского правительства должна будет увеличиться, можно будет ожидать каких-либо перемен.
А пока что отсутствие существенных изменений задает прежний курс и российскому рынку. Цены на стальную продукцию на нем продолжают снижаться. Арматура уже ниже 65 тыс. руб. за т, а там и 60 тыс. руб. видны в недалекой перспективе. Спад происходит и по другим товарным группам, даже тем, где производители пока воздерживаются от пересмотра отпускных цен.
Отчасти нынешнее снижение покупательской активности – эхо недавнего ажиотажа. За повышенный спрос тогда приходится расплачиваться его недостатком сейчас. При этом заграница металлургам больше не помогает, а в ближайшие несколько недель и не поможет. Поэтому есть вероятность, что и после Нового года прокат продолжит постепенно дешеветь. Приходится опять ждать весны и надеяться, что она окажется ранней и дружной.
Внутреннее потребление стальной продукции в России в любом случае ниже определенного предела не упадет, что бы ни происходило в ближайшем будущем за пределами нашей страны. Инвестиционный задел на будущий год подготовлен очень большой. Работы впереди очень много. Главное только, чтобы внешние проблемы меньше задевали наш внутренний рынок. И вообще, пусть уж тогда подольше будет тихо…
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Чем дальше, тем больше усиливается впечатление приближающегося мирового кризиса. Политического, экономического, энергетического, может, даже эпидемиологического и военного. Всякого. Зима впереди долгая, и по-видимому, «не только лишь все» благополучно дотянут до весны.
Нет, текущая ситуация в данный момент не выглядит особенно напряженной. Появление нового штамма коронавируса не стали раскручивать, хотя обстановка в этой сфере лучше не стала. Цены на нефть «брент» упали ниже отметки $70 за баррель, что в предыдущий раз наблюдалось в августе, но пытаются отскакивать. Вообще, за нефтяными графиками очень интересно наблюдать. Который день подряд торги на мировых биржах стартуют с бодрого роста, а потом просыпается мафия… то есть, открываются американские биржи, и котировки валятся обратно вниз. Зато улучшились настроения в Китае, а биржевые котировки на стальную продукцию продолжают там подниматься.
Тем не менее, все прежние проблемы никуда не делись. Да, нефть подешевела, но спотовые цены на природный газ в Западной Европе и Восточной Азии по-прежнему превышают $1000 за 1 тыс. куб. м. Снова полезли вверх тарифы на контейнерные перевозки. Автомобилестроение, похоже, прошло через крайнюю точку спада, но нормализация обстановки с поставками полупроводников для бортовой электроники сдвигается все дальше на 2022 г. Про международную политику я даже не говорю.
На мировом рынке стали все больше заметна новая напасть — падение спроса по всем направлениям. Российские металлургические компании сократили экспортные продажи, так как сложно становится найти покупателей, а за тех, что есть, надо бороться с конкурентами. Китайские компании благодаря повышению на внутреннем рынке перестали сбрасывать цены на экспорте, а вот индийцы понизили котировки на горячекатаный прокат из стали SAE1006, используемой, в частности, для производства оцинковки, до около $800 за т FOB.
Стоимость российской продукции пока превышает $800 за т, но продавать ее непросто. Вьетнамский рынок для отечественных металлургов пока труднодоступен. В Турции продолжается валютный кризис. В Евросоюзе с 1 января начнется отсчет новой квартальной квоты, но она, очевидно, будет заполнена в считанные недели. Не лучше и ситуация с заготовкой. Ее предложение на мировом рынке превышает спрос, а конкуренты из Ирана и Индии готовы продавать ее дешево.
Не исключено, что российские металлурги окажутся в начале 2022 г. в ситуации, обратной той, что была весной 2020 г. Тогда просел внутренний спрос, но производителей выручил экспорт. Сейчас может, наоборот, сократиться экспорт… и что тогда?!
В выступлении президента на инвестиционном форуме «Россия зовет!» на прошлой неделе как раз прозвучала исчерпывающая оценка нынешней экономической обстановки. Ее отличительной чертой стало высокое инфляционное давление, идущее от западных стран, которые в период пандемии вбрасывали в экономику триллионы «нарисованных» денег.
Проблема здесь заключалась в том, что это были не просто «фантики», а основные мировые резервные валюты, которые несмотря ни на что считались и продолжают считаться настоящими деньгами, за которые можно купить реальные вещи. Сколько бы триллионов долларов ни было напечатано за последние полтора года, за доллар по-прежнему дают не в морду, а семьдесят четыре полновесных российских рубля. Да, Россия, Китай и некоторые другие страны потихоньку проводят дедолларизацию взаимной торговли, но мировые цены на всё продолжают считать в «баксах».
Глобальный инфляционный процесс стартовал еще в конце прошлого года с ресурсов, включая металлопродукцию. В конце весны — начале лета 2021 г. он поднял до рекордных значений с 80-х гг. ХХ века цены производителей, выражаемые в индексах PPI. В последние месяцы подорожание все сильнее захватывает потребительский рынок.
Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме Reuters Next, Банк России крайне обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий. И, естественно, намерен с ними бороться. О необходимости противостоять последствиям инфляции говорил в своем выступлении на инвестиционном форуме президент.
На первый взгляд, это представляется попыткой с негодными средствами. События 2021 г. показали, что российские власти не могут эффективно бороться с импортируемой инфляцией. Так, цены на стальную продукцию в течение всего первого полугодия росли вместе с мировыми, а затем и опережая мировые, и ничего с этим нельзя было поделать. Экспортные пошлины на прокат и полуфабрикаты были введены только с августа, когда подъем за рубежом уже прошел пик.
Чтобы удержать внутренние цены от роста в условиях взлета мировых, необходимо восстанавливать всеобъемлющий контроль как над экспортом, так и над процессами ценообразования. А заодно, и над валютным рынком, чтобы рубль укреплялся относительно дешевеющих мировых валют, а не заражался от них инфляционной болезнью. Однако это означало полностью перечеркнуть сложившуюся в России рыночную модель, вернувшись к плановой экономике. Для этого не было и нет ни возможностей, ни желания.
В то же время, ситуация выглядит совсем иначе, если знать или хотя бы предполагать, что нас ждет впереди. Щедро разбрасываясь деньгами, западники загнали себя в вилку. С одной стороны, они могут тоже попытаться задавить инфляцию — поднять процентные ставки, сократить бюджетные расходы, перестать выкупать с фондового рынка всякий мусор типа нынешних американских «трежерей». Оборотной стороной этой стратегии будут дефляция и сильнейший экономический спад, но доллар, черт побери, останется долларом — всеобщим мерилом стоимости.
С другой стороны, уже разгорающийся мировой экономический кризис, причиной которого становится падение спроса, можно снова залить деньгами. Напечатать еще пару-тройку-десяток триллионов, бросить их на строительство тысяч ветроустановок, миллионов гектаров солнечных панелей, водородных электролизеров и водородопроводов, просубсидировать покупку сотен тысяч электромобилей и электрообогревателей, раздать, наконец, пенсионерам!.. Экономика снова пойдет в галоп, как загнанный конь, которому прямо в рот влили свежего стимулятора. Вот только резкого роста инфляции в этом сценарии не избежать.
Так вот, политика Центробанка по борьбе с инфляцией в России и только в России, игнорируя внешние факторы, имеет смысл только в том случае, если… нового импорта инфляции не будет. Если в США примут решение спасать в первую очередь доллар и положиться на то, что национальную экономику можно будет вытянуть, например, с помощью очередного перераспределения ресурсов. Тогда выдерживать инфляционное давление придется только на некоторых направлениях — например, энергоносители, продовольствие или удобрения. Кстати, интересно, новость о приостановке экспорта удобрений, якобы, из-за отсутствия лицензий — это просто раздолбайство, тонкий намек или… новая политика?!..
Есть мнение, что в конце 80-х гг. именно Америка находилась на грани сильнейшего кризиса, и только крах Советского Союза и всего социалистического блока позволил ей сорвать банк, покрыть все затраты и продлить свое процветание на четверть века. Сейчас же сблизившиеся Россия и Китай мягко намекают Вашингтону, что в этот раз их трогать не рекомендуется.
После этого небольшого отступления можно снова вернуться к речи президента на инвестиционном форуме. Он предложил обратить внимание на четыре ключевых направления.
Первое — это дальнейшее увеличение инвестиций в инфраструктуру, в том числе, из средств Фонда национального благосостояния. Это достаточно эффективный механизм стимулирования экономического роста. Строительство дорог, инженерных сетей, систем коммуникаций не только создает спрос на ресурсы, новые заказы и рабочие места, но и повышает связность экономики и способствует ее развитию.
Вообще, четко прослеживается стратегия — противопоставить наступающему кризису, приходящему извне, рост инвестиций в развитие внутреннего рынка. В частности, министр финансов Антон Силуанов и от металлургических компаний потребовал новых проектов. Кстати, если мировой энергетический кризис продолжится, инвестиции в российскую промышленность могут оказаться очень многообещающими. Особенно, если удастся создать новую международную экономическую структуру, свободную от западников, например, на базе БРИКС. Кстати, некий зародыш такой системы под названием Multipolar Alliance уже существует.
Второе направление — цели устойчивого развития в рамках достижения углеродной нейтральности России к 2060 г. Пожалуй, самая мутная тема. Под нее, возможно, получится привлечь внешние капиталы, но это имеет смысл, если мы сами будем решать, что устойчиво, а что — нет. А то тут уже одна такая Европейская комиссия требовала прекратить добычу природных ресурсов в Арктике, а Всемирный банк подкатывал с предложением создать и внедрить плату за выбросы углекислого газа.
Направление номер три — цифровая трансформация. И это, кстати, не только пресловутые QR-коды. В долгосрочном плане создание общенациональной информационной системы открывает просто фантастические перспективы, например, экономики с эффективным сквозным планированием и прямым соединением производителей и потребителей. Правда, это потребует абсолютной прозрачности бизнеса и финансов.
Четвертое направление, выделенное президентом, — это банковский сектор и фондовый рынок. Здесь важны два момента: во-первых, кредитование реального сектора, а во-вторых, расширение российского рынка ценных бумаг, превращение его в инструмент финансирования бизнеса, с одной стороны, и долгосрочного финансирования, с другой. Кстати, за счет этого можно будет рассчитывать на уменьшение объемов вывоза капитала.
Новые мировые кризисы нам, конечно, совершенно не нужны. И не от всех кризисов можно защититься. Но с некоторыми потенциальными проблемами и рисками Россия справиться сможет.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Зима не просто близко. Она уже практически на пороге, причем не только в обычном календарном смысле. Появление нового штамма коронавируса под названием «Омикрон» вполне тянет на «черного лебедя». Правда, пока что он только покружил над миром, обозначив свое появление. А может еще и очень сильно нагадить!
Впрочем, одно черное дело «Омикрон» уже сделал. На биржевых торгах 26 ноября произошло сильнейшее с апреля 2020 г. падение цен на нефть. Котировки на сорт «брент» упали за сутки на 11,3%, до $72,91 за баррель, что стало самым низким уровнем с начала сентября. Под этим вредным влиянием и курс рубля провалился до минимальной отметки по отношению к доллару более чем за семь месяцев.
Однако самая большая угроза – как всегда, потенциальная. О новом штамме еще ничего толком не известно. Он найден всего у нескольких человек. Нет никаких данных о его смертоносности. Известно только, что он, вроде бы, устойчив к имеющимся вакцинам и, кажется, еще более заразен, чем вредоносная «Дельта». Но этой малости хватило, чтобы вызвать всемирную панику с большими последствиями.
Как отмечают некоторые рыночные аналитики, комментирующие обвал цен на нефть, биржи сразу же начали ориентироваться на самый худший вариант из возможных – что новый штамм окажется крайне опасным, из-за чего правительствам снова придется объявлять жесткие локдауны и вводить ограничения на перевозки людей и грузов. Ряд стран, включая, кстати, Россию, объявили о приостановке авиасообщения с ЮАР и Гонконгом, где обнаружен вирус.
Панику старательно раздувают и СМИ. Опрошенные специалисты еще ничего толком не знают, но предупреждают о страшной опасности. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит срочное совещание по новой угрозе. Может, они знают что-то такое, что пока не известно общественности. А может, все развеется без следа – мало ли у вируса мутаций?!.. Ближайшая пара дней покажет, по какому пути пойдут события.
В любом случае, здесь есть несколько неприятных моментов. Во-первых, понятно, что с коронавирусом и связанной с ним чрезвычайщиной мы в обозримом будущем не расстанемся. Вакцинация помогает существенно снизить вероятность летального исхода, но она не может предотвратить заражение. В последнюю неделю в ряде европейских стран и американских штатов снова обострилась эпидемиологическая ситуация. В общем, здравствуйте, новые локдауны!
Во-вторых, достаточно легко списать «Омикрон» на происки империализма. Настораживает, что сложившаяся на мировом рынке нефти ситуация сильно напоминает конец 2018 г. Тогда цены на нефть тоже превысили $86 за баррель в начале октября, после чего их в течение трех с небольших месяцев уронили почти на 40%, до немногим более $52 в конце декабря. Причем произошел этот непрерывный обвал без каких-либо очень веских причин. Биржевые котировки просто повалились вниз, не реагируя ни на какие повышательные факторы.
Интересно, что и в этом году на пике нефть также дошла до более $86 за баррель, и произошло это в октябре. Кстати, в «черную пятницу» 26 ноября ничего не упало так сильно, как нефть и нефтепродукты. Прочие товары и биржевые индексы понизились только на 3-5%.
Но наличие некоего «тайного заговора» — это еще не самый худший вариант! Гораздо паршивее, если ничего подобного нет, просто в борьбе человечества с вирусом побеждает вирус, и медики пока что так и не нашли способа эффективно лечить эту заразу и прекратить ее распространение. В этом случае QR-коды и локдауны – просто жесты отчаяния, когда делать что-то надо, а результатов нет.
В-третьих, если угроза «Омикрона» реальна, то мировую экономику ждет в самом ближайшем будущем развилка между двумя крайне хреновыми дорожками. В соответствии с первым возможным вариантом, на который прямо намекнула паника на рынке нефти, правительства вновь объявляют локдауны и сажают население на карантин. Причем финансовые и прочие резервы уже были исчерпаны в 2020 г., а новых нет. Это означает – новый провал в экономике, падение спроса и цен, окончательная ликвидация целых секторов сферы услуг. Мертвая пустыня, одним словом. И мертвые с косами… то есть, в медицинских масках стоят…
Второй вариант ничуть не лучше. Он заключается в том, что если денег тупо нет, их надо нарисовать и раздать. То есть, повторение 2020 г. с разбрасыванием с вертолета компенсаций и пособий, созданием искусственного спроса. А в комплекте – еще более лютый дефицит рабочей силы, чреватый окончательным распадом мировой транспортной системы вплоть до самой последней мили. И, само собой, новый скачок инфляции, которая радостно потечет через границы к нам, оборачиваясь разрушительной стагфляцией.
Да, сразу же следует оговориться, что эти угрозы еще могут не оправдаться. Если панику с «Омикроном» не станут раскручивать, ситуация более-менее нормализуется, хотя вопрос о выборе между кризисной дефляцией и гиперинфляцией по-прежнему останется стоять на повестке дня. Просто все может произойти не в такой острой форме.
Что же, если нормальность в итоге победит, то на первый план выйдут уже другие, более локальные проблемы. Для мирового рынка стали самой горячей точкой на прошлой неделе стала Турция, где обвалился курс национальной валюты. С начала ноября лира подешевела более чем на 25% по отношению к доллару.
Вообще, пример Турции показывает, что в условиях инфляции и при наличии «мягкой» валюты, не имеющей «золотой» репутации доллара и евро, снижать процентные ставки и вбрасывать деньги в экономику – не самая лучшая затея. Особенно, если платежный и внешнеторговый баланс сильно и хронически отрицательный.
Как будут выпутываться турецкие власти из создавшегося положения, сложно сказать. Но национальный рынок стали просел всерьез и достаточно надолго. Скорее всего, несмотря на падение валютного курса и резкое сужение внутреннего спроса турецкие компании все-таки не станут заваливать мировой рынок стальной продукции по бросовым ценам. Затраты на металлолом, природный газ и электроэнергию у них высокие, причем сырье и энергоносители, в основном, импортные. Однако в качестве покупателя заготовки и горячекатаного проката Турция, похоже, сильно потеряла в привлекательности, а это не хорошо для российских экспортеров.
На другую сторону весов можно, впрочем, положить Китай. Правительство КНР, по-видимому, спохватилось и решило немного подкормить свежими кредитами строительный сектор. В основном, нормализовалась ситуация с обеспечением электроэнергией. При этом ограничения на производство чугуна и стали остаются в силе. Соотношение между предложением и спросом несколько улучшилось, так что в Китае пошли вверх цены на прокат и железную руду.
Конечно, Китай в обозримом будущем вряд ли возобновит импорт заготовки, но экспортные котировки на катанку и горячекатаный прокат, возможно, перестанут падать. По крайней мере, предложения для Вьетнама возросли от $770-780 за т CFR до около $800. Посмотрим, получит ли эта тенденция продолжение.
На российском рынке между тем тенденции противоположные. Стальная продукция дешевеет, и это хорошо, потому что в ходе подъема в октябре и начале ноября цены, пожалуй, вышли на слишком большие высоты. Скорее всего, постепенное понижение продолжится и в декабре. Однако прогнозировать что-либо более продолжительные сроки сейчас сложно.
За рубежом могут развиться новые процессы, от которых, не исключено, надо будет отгораживаться, насколько это возможно. В 2020-2021 гг. решить эту задачу не удалось, но надо же, в конце концов, учиться хотя бы на собственных ошибках! Причем инфляционный сценарий для нас хуже и опаснее просто кризисного.
Зима будет трудной, это уже очевидно. Значит, надо сохранять здоровье и бодрость и верить в себя.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Прошла всего неделя после завершения выставки «Металл-Экспо», а уже кажется, что это было давным-давно. Просто за последние дни произошло много событий, которые, как иногда кажется, буквально растягивают время.
Для отечественной металлургии прослеживаются два ключевых направления. Первое — это повышение цен на прокат и его законотворческие последствия. Второе — климатическая повестка, которая превратилась в постоянно действующий долгосрочный фактор.
Внутренние котировки на арматуру в России достигли пика в начале ноября, а теперь постепенно спускаются с него. Пошел пересмотр заводских цен, корректируются в сторону понижения предложения в прайс-листах металлотрейдеров. Теперь сильно завышенной выглядит стоимость фасонного проката. Лист, возможно, сохранит свои позиции в декабре благодаря ограниченному ремонтами объему предложения, но перспектив для дальнейшего роста пока не видно. Да и Минпромторг, как говорится, не велит…
Продление экспортных пошлин на прокат после 1 января пока остается этакой страшилкой для непослушных производителей. Реально же металлургов облагодетельствовали тремя новациями — НДПИ на железную руду, акцизом на жидкую сталь и повышением экспортных пошлин на металлолом.
Размер акциза в нынешних условиях не представляет собой чего-то особо сложного для российских металлургических компаний. Стоимость слябов на экспорте сейчас немного превышает $700 за т FOB и 2,7% от этого показателя — это менее $20 за т. Мини-заводы, для которых акцизом облагается разница между сырьевыми затратами и экспортной ценой заготовки, тоже вряд ли должны жаловаться на госдумовских законодателей. Ставка НДПИ — 4,8% от котировок на концентрат с 62% железа на Сингапурской бирже с поправкой на содержание железа в налогооблагаемой продукции — тоже не сулит вертикально интегрированным компаниям больших расходов.
В систему заложен механизм, снижающий либо обнуляющий платежи при падении мировых цен на руду или стальные полуфабрикаты. Правда, мини-заводы могут столкнуться с некоторыми проблемами в случае сильной девальвации рубля, так как затраты у них считаются в отечественной валюте, а продажные цены в — долларах, но такой вариант все-таки не слишком вероятен. Более серьезной может оказаться другая опасность, которой могут быть подвержены комбинаты, — низкая рентабельность при высоких экспортных долларовых ценах на слябы. Но к этой теме мы вернемся позже.
Новости по теме
Так или иначе, по сравнению с экспортными пошлинами на прокат новые платежи не так уж и велики и обременительны. Кроме того, металлургам предлагается расширение внутренних поставок металлолома за счет минимизации поставок этого сырья в дальнее зарубежье. Правда, как показал опыт последних месяцев, повышение экспортной пошлины на лом до 45, а затем до 70 евро за т оказало лишь сравнительно небольшое и непродолжительное воздействие на российский рынок. Цены на это сырье продолжают расти. Они уже превысили прежний рекорд, поставленный в начале июня. Ряду заводов лом обходится уже по 30 тыс. руб. за т с доставкой без НДС, и это, судя по всему, еще не предел.
Основная проблема заключается в том, что металлолома в России собирается недостаточно много, а спрос на него увеличивается. В последние годы на экспорт в дальнее зарубежье уходило не более 9-12% от валового ломосбора, и даже полное обнуление этого показателя отечественную металлургическую отрасль не спасет. Возможно, решение нужно искать не в запретах на экспорт, а в стимулировании и облегчении ломосбора. Иногда эта отрасль производит впечатление уж слишком зарегулированной.
Значение металлолома для российской металлургии, как ожидается, будет расти в долгосрочной перспективе, так как перед отраслью официально поставлена новая задача — бороться с глобальным потеплением и выбросами углекислого газа. Хотя конференция ООН по климату COP26 в Глазго завершилась без каких-либо судьбоносных решений (даже угольную энергетику не запретили), но участвующие в ней страны обязались в кратчайшие сроки разработать свои планы по декарбонизации.
На Координационном совете по промышленной политике в металлургическом комплексе при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, который состоялся в рамках деловой программы «Металл-Экспо», как раз поднимался вопрос о разработке отраслевой стратегии декарбонизации. Эту работу необходимо сделать в ходе подготовки Плана реализации Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.
Как отмечалось в ходе обсуждения, у металлургов (не только российских, но и зарубежных) пока нет в распоряжении технологий, которые позволили бы радикально сократить выбросы углекислого газа при производстве стали.
Внедрение водородной металлургии требует решения ряда непростых технических проблем, причем это, очевидно, будет очень дорого. Улавливание и захоронение углекислого газа, что теоретически позволит не менять базовые технологии, тоже весьма дорого и требует наличия особых геологических условий. Замена доменных печей и конвертеров на электропечи приведет, прежде всего, к дефициту сырья — металлолома и качественной железной руды для получения ГБЖ. А перевод промышленности на прерывистую и ненадежную ветряную и солнечную генерацию — это вообще бред. Хорошо, что у нас хотя бы этим не заморачиваются, предпочитая развивать атомную энергетику, строить газовые энергоблоки и использовать ГЭС.
Однако, так или иначе, российским металлургам в ближайшие годы придется выбрасывать огромные деньги буквально на воздух, да еще запрашивать финансовую поддержку от государства на осуществление энергоперехода. Причем единственным результатом от этой многотрудной деятельности станет некоторое снижение выбросов углекислого газа, что может быть, когда-нибудь и как-нибудь повлияет на климат всей планеты.
Конечно, если все эти деньги будут потрачены в России, ущерб для экономики в целом может оказаться не таким уж большим. В конце концов, даже такой корифей экономической мысли как Джон Мейнард Кейнс вполне положительно относился к проектам наподобие строительства египетских пирамид. Мол, деньги должны трудиться, создавая рабочие места и платежеспособный спрос, а на что они тратятся — уже не так важно.
Но как-то слабо верится, что в этом деле российские металлурги обойдутся без иностранной помощи. Ведущие поставщики оборудования Danieli, SMS и Primetals наперебой предлагают свои «зеленые» технические решения. А сколько денег уйдет западным консультантам и аудиторам, которые должны будут определить уровень соответствия российских антиуглеродных мер «правильным» стандартам климатической политики?! Причем нет никакой гарантии того, что эти данные будут хоть как-то приняты во внимание Брюсселем и Вашингтоном, которые станут определять правила этой игры.
Вообще, наблюдая за тем, что сейчас происходит в мире, частенько поминаешь добрым словом Советский Союз с его экономической автаркией. Издержки от глобализации и интегрированности в мировую экономику в последнее время нарастают и как бы не начали превышать преимущества.
Инфляцию, с которой героически борется Центробанк РФ, мы целиком и полностью импортировали из-за рубежа. При этом в 2022 г. нас может ожидать повторение пройденного. Правительство Японии объявило о намерении направить еще 56 трлн. иен ($490 млрд.) на стимулирование экономики, которая и в 2021 г. пострадала от ковида. Значительная часть этой суммы будет потрачена на поддержку населения и бизнеса, т. е. на формирование дополнительного спроса. В США в скором будущем может быть утвержден новый пакет на $1,75 трлн. на финансирование энергетического перехода и социальных мероприятий. Осталось, чтобы к заливанию кризиса деньгами вернулись Евросоюз и Китай, и мировую экономику снова захлестнет инфляционным валом. Тогда нам и 80 тыс. руб. за тонну арматуры покажутся божеской ценой, а 150 тыс. руб. за тонну оцинковки — приемлемым вариантом.
С другой стороны, западным странам и Китаю отступать некуда. Попытка снять экономику с денежной иглы и вернуть ее к докризисному состоянию может привести к широкомасштабному глобальному кризису. Пример такого подхода мы видим в Китае. Правительство КНР резко ограничило госинвестиции в инфраструктуру, затянуло кредитные краники и притормозило рынок недвижимости. В результате сильнейшим образом просел спрос на стальную продукцию, а производство упало до уровня 2018 г.
Конечно, тут большую роль сыграли и энергетические проблемы в Китае, но к ноябрю большую их часть удалось разрулить. Добыча угля в октябре достигла максимального уровня, как минимум, с марта 2015 г. В основном восстановлены железные дороги, пострадавшие от летних наводнений. Тем не менее, китайские компании не спешат наращивать производство стальной продукции, а при этом еще и активизировали свою деятельность на внешних рынках.
Поставки относительно дешевого китайского проката уже притянули вниз рынок восточной Азии. Горячекатаные рулоны продавались во Вьетнам в середине ноября по $800 за т CFR — существенно дешевле, чем могли предложить российские производители. Китайская листовая продукция доходит уже и до Турции, правда, с длительными сроками поставки. На подходе китайская катанка, стоимость которой на FOBe более чем на $100 за т ниже, чем у российской. Китай обвалил азиатский рынок заготовки, а не востребованная там продукция из Индии и Ирана пошла в Египет, который только-только отменил защитные пошлины.
В принципе, внутренние цены на прокат в Китае показывают признаки стабилизации, но их восстановление либо повышение экспортных котировок китайских компаний маловероятно. Спрос на стальную продукцию повсеместно слишком низкий. Прошлогодний потребительский бум сменился всеобщим спадом, который еще и усиливается двумя кризисами — транспортным и энергетическим.
Так что, куда не кинь — всюду клин. Не будет новых денежных вбросов — экономика зачахнет, цены будут все сильнее снижаться. Начнется новый раунд стимулирующих программ — инфляция продолжит ускорение, а ценовые рекорды середины прошлого года будут позорно биты. А так как Россия является неотъемлемой частью мировой экономики, то и нам не избежать общей судьбы.
Признаться, уж лучше это будет кризис по типу 2008 г.! По крайней мере, внутренний спрос благодаря национальным проектам в России не пропадет, а новое удешевление нефти как-то можно будет пережить. Но вариант со всемирной гиперинфляцией пока выглядит более вероятным. Зима по-любому будет тяжелой, а весна может оказаться очень бурной.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Подъем на российском рынке арматуры, похоже, подходит к своему пику. Цены достигли 80 тыс. руб. за т, чего не бывало даже в середине лета, но на этом уровне, очевидно, не удержатся. Даже самый ажиотажный спрос рано или поздно насыщается, а именно это сейчас и происходит.
Проблемой подъема цен на прокат строительного назначения озаботилось Министерство промышленности и торговли, отреагировав на нее, правда, с некоторым запозданием. Так что теперь металлурги и металлотрейдеры, которых снова вызывают «на ковер», могут честно отрапортовать, что новых повышений больше не будет.
Тем не менее, в качестве одной из мер противодействия в Министерстве рассматривают повышение экспортной пошлины на металлолом до 100 евро за т. Как показали события последних месяцев, когда пошлина составляла поначалу 45 евро, а затем 70 евро за т, таким образом можно действительно сократить поставки сырья в дальнее зарубежье. В то же время, существенного удешевления лома на российском рынке не произошло, а с середины октября он стабильно идет на подъем.
Пока что закупочные цены заводов немного уступают рекордным показателям начала июня, но зимой, вероятно, их превзойдут. Лома на российском рынке просто не хватает. Можно полностью остановить поставки этого сырья за пределы СНГ, но за счет этого объем предложения в России вырастет, в лучшем случае, на единицы процентов. Надо увеличивать ломосбор, но для этого сначала надо понять, как это сделать, и реально ли сделать вообще. Возможно, этот сектор стал слишком зарегулированным, а это всегда препятствует росту бизнеса.
Вообще, в последнее время на российском рынке черных металлов наблюдается интересная особенность. Повышение цен на нем происходит с минимальной привязкой к зарубежным событиям, так как было вызвано, прежде всего, оживлением внутреннего спроса в условиях дефицита предложения и проблем с железнодорожными поставками.
Взлет в арматурном секторе действительно сопровождался подорожанием заготовки и сортового проката на мировом рынке в первой половине октября, но тот рост давно закончился и вряд и возобновится в обозримом будущем. Меткомбинаты рассчитывают, что листовой прокат в России выйдет на пик в декабре, но внешняя поддержка для этого невелика.
Резкий рост затрат металлургических компаний Европы, Индии, Турции на электроэнергию, природный газ, энергетический и коксующийся уголь не привел к такому же значительному подорожанию стальной продукции. Цены не пустил вверх недостаточный спрос на прокат. Кроме того, усиливается спад в Китае, и на этот фактор приходится обращать внимание всем участникам мирового рынка.
Только за последнюю неделю биржевые котировки на арматуру и горячекатаный прокат в Китае упали примерно на $60 за т, до уровня, соответствующего началу февраля текущего года. Тогда китайский спад спровоцировал падение цен не только на мировом, но и на российском рынке под влиянием экспортных поставок дешевого проката из КНР.
История повторяется. В конце октября и начале ноября китайские компании активно перепродавали заготовку, заказанную до начала энергетического кризиса, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, обвалив котировки на нее в регионе на $40-60 за т за две недели. А сейчас наступает очередь горячекатаного проката. За те же две недели котировки на него обрушились более чем на $100 за т, до менее $820 за т FOB. Это не выводит из игры российских металлургов, но заставляет их отказаться от повышения цен в Азии по сравнению с первой половиной октября. Более того, китайский прокат может вернуться на рынки Турции и других стран Ближнего Востока.
При этом восстановления китайского рынка в обозримом будущем, скорее всего, не произойдет. Строительный сектор столкнулся с падением объемов инвестиций и ужесточением государственного регулирования. В начале ноября финансовые проблемы возникли еще у нескольких китайских девелоперских компаний, зарегистрированных на фондовой бирже Гонконга. Ситуация на угольном рынке несколько улучшилась, но приближающаяся зима, по прогнозам метеорологов, обещает быть холодной. Поэтому ограничения на энергоснабжение промышленных предприятий, скорее всего, не будут отменены до весны.
Здесь остается надеяться только на то, что падение производства стали в Китае окажется в итоге более значительным, чем спад потребления. Кроме того, как заявляет национальная металлургическая ассоциация CISA, Китай не может себе позволить экспортировать стальную продукцию в значительных объемах, так как должен в первую очередь заботиться об энергосбережении и сокращении выбросов углекислого газа. Для этого выплавка стали в стране должна быть ограничена до необходимого минимума, чтобы хватало только для удовлетворения внутренних потребностей.
Вообще, борьба с выбросами углекислого газа в последнюю неделю находилась в центре внимания благодаря проведению в Глазго (Великобритания) конференции ООН по климату COP26. Неделей ранее эта проблема заявлялась в качестве приоритетной на саммите G20.
Всемирный съезд членов климатического лобби вызвал немало язвительных комментариев. Чего, например, стоило прибытие борцов с выбросами на целой стае частных джетов, которые являются, можно сказать, чемпионами в гражданской авиации по величине углеродного следа?! Или кортеж президента США Джо Байдена, состоящий из 85 автомобилей с «некошерными» двигателями внутреннего сгорания?!
Кстати, глава «свободного мира» прибыл в Европу после чувствительной неудачи в Конгрессе. Палата представителей не утвердила программу выделения $1,75 трлн. на различные социальные цели и стимулирование перехода к безуглеродной энергии. Радикальное крыло правящей Демократической партии США не устроила предложенная сумма: они хотели, чтобы она была в два раза больше. Правда, уже после отбытия президента в Глазго Конгресс утвердил программу развития инфраструктуры с инвестициями более $1 трлн. Еще один фактор разгона инфляции.
В ходе COP26 прозвучало немало интересных высказываний. Тот же Джо Байден выступил против новых инвестиций в добычу нефти и газа и за борьбу с выбросами метана. Последняя с большой вероятностью поставит крест на добыче сланцевого газа в США — на минутку, главного источника энергии для американских электростанций. А потом он же раскритиковал страны ОПЕК+ за то, что они в недостаточной степени увеличивают у себя добычу нефти, из-за чего, якобы, дорожает бензин в США.
Еще более ярко высказался генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В своей эмоциональной речи он призвал народы мира перестать бурить землю и добывать полезные ископаемые, так как тем самым они «копают себе могилы». Это заявление вызвало оторопь даже у некоторых представителей климатического лобби.
Энергетический переход на самом деле потребует резкого увеличения производства алюминия, меди, никеля, кобальта, лития и редкоземельных металлов. В частности, по подсчетам консалтинговой компании Wood Mackenzie, чтобы добиться нулевых выбросов углекислого газа к 2050 г., потребление одной только меди к 2040 г. должно вырасти на 19 млн. т по сравнению с 2020 г.
В WoodMac не скрывают, что эта миссия невыполнима. Из 20 крупнейших медных рудников мира половина была введена в строй еще до начала Второй Мировой войны, а то и в XIX веке. В XXI веке было найдено и введено в эксплуатацию только одно крупное медное месторождение в мире — Kamoa-Kakula в Замбии. Предполагается, что в 2028 г. объем добычи достигнет там 840 тыс. т в год. Несколько крупных нетронутых месторождений есть в США. Но местные законы и процедуры до крайности затрудняют их освоение, а в администрации президента Байдена уже подготовили закон, в соответствии с которым выплаты роялти с горнодобывающей деятельности должны будут вырасти в пару-тройку раз.
Впрочем, мировое климатическое лобби, к которому относятся все без исключения ведущие западные (и не только западные) политики, напоминает громадного динозавра, который упорно движется вперед, принципиально не замечая, что его что-то держит за хвост. На COP26 была озвучена стоимость перехода к безуглеродной глобальной экономике — $130 трлн. в текущих ценах. И эту сумму планируется получить и потратить.
Если ранее основным источником средств на продвижение климатических проектов выступали государственные субсидии, то теперь, когда вал эмиссионных денег грозит обрушить мировую финансовую систему, просто так «нарисовать» нужное количество триллионов уже как-то страшновато. Поэтому раскошелиться должны бизнес и население.
В частности, предлагается ввести общемировую обязательную систему взимания платы за выбросы углекислого газа. Причем ее размер должен достигнуть $75 за т к 2030 г. Для меткомбинатов, например, это означает дополнительную финансовую нагрузку на уровне $140-150 на каждую тонну стали.
Правительство Великобритании заявляет, что каждая компания в обязательном порядке должна составить план обнуления выбросов углекислого газа. А надзирать за тем, как она его выполняет, должен будет некий независимый орган. Как заявил британский министр финансов Риши Сунак (Rishi Sunak), инвесторы должны относиться к климатическому аспекту их вложений не менее тщательно, чем к расчету прибылей и убытков. В ООН поддержали эту инициативу и призвали реализовать ее в глобальных масштабах.
На COP26 было заявлено, что ведущие страны мира должны закрыть все свои угольные электростанции не позднее 2040 г., а развивающиеся страны — до 2050 г. Причем это официальная декларация, к которой присоединились такие государства как Вьетнам и Польша, для которых угольная энергетика очень важна. Правда, пока что среди подписантов нет США, Китая, Индии и Австралии.
Россия, как известно, тоже заявляет о намерении декарбонизировать свою экономику к 2060 г. И хорошо, если к тому времени большую часть электроэнергии в стране будут генерировать ГЭС и АЭС с замкнутым топливным циклом, а выбросы газовых ТЭС и ТЭЦ будут обнуляться, например, улавливанием углекислого газа лесами и болотами. Однако позволят ли нам играть в чужую игру по своим правилам?!
Пока что более вероятным выглядит вариант, что российскому бизнесу, действующему на международном уровне, придется принимать западные правила и нести огромные расходы на декарбонизацию, не получая от этого никакой реальной финансовой отдачи. Сейчас российские меткомбинаты рапортуют о снижении удельных выбросов углекислого газа на единицы процентов и считают это немалыми достижениями. Но что, если от них потребуют уменьшения эмиссии в разы?!
Впрочем, не будем заранее огорчаться и бить тревогу. Приближается зима, которая обещает быть весьма суровой. А чистый морозный воздух обычно хорошо проветривает мозги.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Металлургические компании по-прежнему выражают свое неприятие идеи экспортных пошлин, которые вступят в силу с 1 августа. Основной лейтмотив заключается в том, что введение 15%-го тарифа катастрофически снизит рентабельность российских компаний, у которых в продажах велика доля экспорта, и ослабит их конкурентоспособность на мировом рынке.
Больше всех по этому поводу негодует группа «Русал», которую действительно можно понять. Мировые цены на алюминий к настоящему времени выросли только на 70-75% по сравнению с минимальным уровнем мая 2020 г. и лишь примерно на 10% превышают показатели предыдущего подъема во втором квартале 2018 г. Особых сверхприбылей у компании действительно нет.
В то же время, в своем праведном гневе руководство группы несколько перегибает палку. Введение пошлины на пять месяцев, безусловно, неприятно, но компанию, очевидно, не разорит. Да и сворачивать на это время часть экспортных операций и даже сокращать производство, как было заявлено «Русалом», вряд ли будет уместно.
Для крупных металлургических комбинатов финансовые потери от пошлин, очевидно, не станут трагедией. Так, Магнитогорский меткомбинат оценивает их примерно в $150 млн., тогда как только во втором квартале компания получила чуть более $1 млрд. чистой прибыли, что более чем вдвое превысило показатель первых трех месяцев текущего года. Вообще, по-настоящему серьезные проблемы возникнут лишь у компаний, для которых основным бизнесом является продажа экспортной заготовки. По-видимому, рентабельность у них останется положительной, но обидно низкой.
Так или иначе, от введения экспортных пошлин на российском рынке ждут понижения цен на прокат. И для этого, бесспорно, есть основания — прежде всего, значительное превышение внутренних котировок над экспортными в последние 2-3 месяца. Очевидно, в итоге российские цены не упадут ниже мировых (хотя тут еще вопрос, что считать мировыми), но размер этой премии должен значительно сократиться.
Пока что вырисовывается сравнительно небольшое удешевление арматуры и довольно существенный спад в секторе горячекатаного проката, возможно, с пересмотром котировок за прошлые месяцы. Весьма неоднозначной выглядит ситуация с прокатом с покрытиями. С одной стороны, металлургические компании не склонны к значительным уступкам, но с другой, котировки на оцинкованную сталь оторвались от холоднокатаного проката на споте, по меньшей мере, на 40-50 тыс. руб. за т. Рано или поздно коррекция здесь обязана произойти, тем более, что дороговизна сильно сузила спрос на оцинковку и полимерку.
Текущее состояние российской экономики, как это, впрочем, давно стало типичным, производит двойственное впечатление. С одной стороны, как заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, экономика восстановилась практически до докризисного уровня, идет дальнейшее развитие.
С этим трудно не согласиться. Коронавирус, похоже, уже не является у нас экономическим фактором. В случае резкого ухудшения обстановки в отдельных регионах какие-либо ограничения, вероятно, будут вводиться, но на промышленность и строительство они точно не будут распространяться. Судя по стенограмме заседания Совета и состоявшегося через два дня совещания президента с членами правительства, эта страница, конечно, еще не перевернута, но на первый план выходят другие задачи.
Государство опять концентрирует свои усилия на национальных проектах, притормозивших во время пандемии. Основными источниками экономического роста должны стать жилищное и инфраструктурное строительство, крупные инвестиционные проекты государственных и частных корпораций, передовые высокотехнологичные отрасли, например, авиастроение, как блестяще проиллюстрировал салон МАКС. Большое внимание уделяется «социалке» во всех видах и, если так можно сказать, повышению качества человеческого капитала.
Вообще, деньги в стране есть, и денег достаточно много. Главное, чтобы их потратили с пользой. Впрочем, для всех, желающих развиваться и умеющих что-то делать, в России создаются широкие возможности.
В то же время, с другой стороны, за пределами «зон экономического роста» обстановка остается весьма напряженной. Центробанк РФ опять повысил ключевую ставку, причем сразу на 1 п.п., до 6,5%, продолжая бороться с импортируемой инфляцией. Льготников, участвующих в различных государственных программах, это мало коснется, а вот остальные почувствуют разницу.
Цены на стальную продукцию в России снижаются, но все равно остаются очень высокими. При этом обстановка на мировом рынке стали не способствует их спаду. В первую очередь, воду мутит Китай, где параллельно развиваются сразу несколько процессов. Так, правительство продолжает ограничительную политику в отношении металлургов. Ряд компаний в нескольких провинциях получили от властей требование сократить выпуск до уровня 2020 г. Для экономики, похоже, готовят мягкую посадку. По крайней мере, только этим можно объяснить радикальное сокращение инвестиций в строительство и инфраструктуру, с одной стороны, и кредитную накачку реального сектора, с другой. Впрочем, очевидно, что потребительского бума, в конце прошлого года завалившего китайскую промышленность ворохом экспортных заказов, скорее всего, больше не повторится.
Внутренние цены на стальную продукцию в Китае снова приподнялись, хотя пока они еще достаточно далеки от пиков начала мая. Однако рост происходит и на экспорте. Согласно новой порции слухов, правительство КНР с 1 сентября установит экспортные пошлины на горячекатаный прокат в размере 20%. Но на всякий случай котировки поднимают все. Так, китайская арматура предлагается за рубеж более чем по $900 за т FOB, а горячекатаные рулоны с начала июля подорожали более чем на $50 за т. Это способствует росту цен на стальную продукцию в Азии, которым могут воспользоваться индийские и российские компании.
Также китайские перекатчики, предвидя дефицит полуфабрикатов на внутреннем рынке, начали активнее приобретать импортную заготовку, стоимость которой подошла к отметке $720 за т CFR. При этом основными поставщиками оказались российские компании. Вьетнамские конкуренты временно выведены из игры, так как в стране был объявлен локдаун вследствие вспышки коронавируса (более 800 случаев в день в 96-миллионной стране). По эпидемиологическим причинам практически не экспортируют сейчас заготовку индийские компании. В Иране у металлургов возникли проблемы из-за острого дефицита электроэнергии.
Таким образом, накануне введения экспортных пошлин внешняя конъюнктура для российских компаний улучшилась. Правда, значительного повышения все-таки не произошло, но, по крайней мере, котировки перестали падать.
В западных странах все остается без особых изменений. С инфляцией там, по крайней мере, пока не борются. Европейский рынок, по большей части, ушел в отпуск, так что покупатели вернутся на него лишь ближе к сентябрю, а в США продолжается жизнерадостный рост. Впрочем, местные компании заказали, наконец, много импортного горячекатаного проката по относительно умеренным ценам с поставкой в октябре-ноябре. Считается, что к этому времени подъем, доведший стоимость данной продукции до более $2000 за т, наконец, прекратится.
Скорее всего, эта пестрота и мозаичность, обилие событий при отсутствии четкой линии, продлятся и в августе. Хотя не стоит совсем уж забывать о зловещей репутации этого месяца. Он еще может преподнести нам немало сюрпризов.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

На российском рынке стальной продукции — маленький праздник для потребителей. Цены на прокат продолжают постепенно идти вниз. Как правило, без обвалов, без резких падений, но несколько тысяч рублей за тонну в неделю с ценника снимается. Продукция строительного назначения (арматура, фасон, прокат с покрытием) дешевеют медленнее, непокрытый листовой прокат — быстрее, но все движутся в одном направлении.
Через две недели должны вступить в силу экспортные пошлины. Против их введения уже перестали возражать, а на повестку дня встал вопрос о коррекции. В частности, предлагаются совершенно логичные и правильные меры по снижению минимальных тарифов для экспортеров заготовки и чугуна. Для них $115 за т и в самом деле — слишком много. Но базовая ставка, по-видимому, так и останется на уровне 15%. Так что в отношении поставок листового проката вообще ничего не изменится.
По идее, после этого продажи на внутреннем рынке либо в страны ЕАЭС станут для отечественных металлургических компаний более выгодными, чем поставки на экспорт в дальнее зарубежье. Вероятно, это станет дополнительным аргументом в пользу дальнейшего удешевления стальной продукции в России в августе.
Однако спад, судя по всему, не будет слишком уж значительным. В лучшем случае, российские цены окажутся в итоге чуть ниже экспортного паритета без учета пошлины. У металлургов по-прежнему не будет проблем со сбытом, разве что маржинальность уменьшится. Избытку предложения на внутреннем рынке, который обычно вызывает ценовые обвалы, взяться неоткуда, реальное потребление, прежде всего, в строительном секторе, в целом хорошее.
Фактически сейчас на российском рынке ликвидируется возникший в конце весны этого года дисбаланс между внутренними и экспортными котировками. Ну, не могут первые превышать вторые на 15-20 тыс. руб. за т! Вот они больше и не будут. А дальше станем, как и ранее, равняться по мировому рынку.
Ближе к концу первой половины июля ситуация за рубежом более-менее стабилизировалась. Спрос слабоватый по причине дождливого сезона в Азии, начала периода летних отпусков в Европе, жаркой погоды на Ближнем Востоке и коронавируса пока что везде. Цены на прокат и сырье относительно постоянные. Но уже нарисовался новый потенциальный возмутитель спокойствия в лице Китая.
Честно говоря, правительство КНР похоже сейчас на того путника, который хочет идти на все четыре стороны одновременно. С одной стороны, есть выраженное желание сократить выплавку стали. Собственно, в июне темпы роста уже снизились до 1,6%, а это минимальный показатель с апреля прошлого года. Выплавка чугуна вообще просела на 2,7% по сравнению с июнем 2020-го. И дело здесь не только в зловредном углекислом газе, но и во вполне осязаемых выбросах пыли, вредных для здоровья соединений серы и азота и прочей таблицы Менделеева.
С другой стороны, помимо борьбы с глобальным потеплением, есть и общие вопросы экономики. Во втором квартале 2021 г. темпы роста ВВП в Китае составили 7,9%, а в первом полугодии в целом — 12,7%. Учитывая, что год назад Китай боролся с коронавирусом (и таки его поборол!), результат не самый впечатляющий.
Поэтому Народный банк Китая снизил для коммерческих банков уровень резервирования, что позволит направить на кредитование дополнительно 1 трлн. юаней ($155 млрд.). Как ожидается, это приободрит экономику, которая уже начала ощущать негативные эффекты от сужения инвестиций в строительство и инфраструктуру, а также предвидеть уменьшение зарубежных заказов на китайские товары.
К слову сказать, китайская банковская система — это очень мощный ресурс для развития национальной экономики. Четыре ведущих банка страны с совокупным капиталом первого порядка почти в $1,5 трлн. занимают первые четыре места в мировом рейтинге (кстати, в следующей пятерке банков — четыре американских), а в первой двадцатке Китаю принадлежат девять мест. Но при этом китайские госмегабанки — это не «пуп земли» и не вещь в себе, а, прежде всего, инструмент для финансирования реального сектора экономики. Остается тихо позавидовать и идти дальше.
Сочетание сокращающегося производства и получившего новое ускорение спроса привело к подъему цен на стальную продукцию в Китае. Основной скачок пришелся, правда, на конец июня — начало июля, но и в предыдущую неделю котировки на арматуру и горячекатаный прокат прибавили $25-30 за т, При этом пошли в рост экспортные цены на китайскую продукцию, а местные прокатчики снова начали приобретать импортную заготовку, стоимость которой достигла $710 за т CFR и более. С этим уже можно работать даже при отправке товара из черноморских портов.
Если китайские власти не станут принимать новых срочных мер по понижению цен на прокат, подорожание местной стальной продукции обеспечит российским металлургам крепкую опору — планку, ниже которой экспортные котировки можно не опускать. А там уже совсем немного времени осталось до осени, когда подойдет к концу дождливый сезон в Азии, а также можно будет надеяться на прекращение коронавирусных ограничений.
Как бы там ни было, но российский горячекатаный прокат в обозримом будущем вряд ли упадет до менее $900 за т FOB Черное море (хотя, наверное, и не поднимется до $1000), а для заготовки нормальным средним интервалом станут $630-680 за т FOB. Отсюда надо будет «плясать» и при определении равновесных цен на внутреннем рынке.
Правда, главный фактор дороговизны ресурсов — это денежная политика западных стран. Пока что она не меняется, хотя данные об инфляции за июнь, оказавшиеся примерно на уровне майских тринадцатилетних максимумов, уже вызывают опасения у специалистов. Руководство ФРС США и европейских центральных банков, правда, заявляет, что беспокоиться не о чем, — это, мол, сказывается прошлогодняя дефляция. Однако что будет, если наивысшие с 2008 г. инфляционные показатели сохранятся и на июль, август, сентябрь?!..
Аналитики Bank of America не исключают, что в таком случае с инфляцией придется бороться. А это значит — прекращать разбрасывать деньги с вертолета, умерить либо вовсе остановить выкуп ценных бумаг с рынка, начать разбираться с бюджетными дефицитами, повышать ставки. При таком раскладе платежеспособный спрос может съежиться очень быстро. Сейчас опасаться этого еще рано, и горячекатаный прокат в США бодро промаршировал на отметку $2000 за т EXW, но ближе к осени надо будет поглядывать зорче.
Европейская комиссия разродилась на прошлой неделе программой радикального сокращения выбросов углекислого газа к 2030 г., в каковую включен и проект системы углеродных тарифов на стальную продукцию, алюминий, цемент, удобрения и электроэнергию. Рассчитывать их планируется уже с 2023 г., а реально взимать — с 2026 г.
Ассоциация «Русская сталь» ответила на эту новацию своим критическим заявлением. По ее оценкам, введение углеродных тарифов на сталь «может привести к существенному рыночному дисбалансу, порождая неравные условия конкуренции с европейскими производителями». При этом, «проведение расчетов по сложной европейской методологии и обязательная внешняя верификация выбросов может стать серьезным административным барьером для поставок в ЕС».
Предложенная Европейской комиссией модель действительно запутанная. Предполагается, что в будущем появится еще один документ, в котором будут указаны уровни «углеродного следа» для каждого вида продукции, подпадающей под тарифы. Причем рассчитываться пока что будут только прямые выбросы непосредственно на производство конечной продукции.
Так, например, не будет иметь значения, из какого источника металлурги будут получать электроэнергию. Станут ли они подключаться к «кошерным» солнечным установкам или тянуть ЛЭП от угольных ТЭС, углеродный след им будет насчитан одинаковый. Европейские металлурги от предложенной системы тоже крайне не в восторге, так как для них могут отменить бесплатные разрешения на выбросы, а это более 50 евро за каждую тонну углекислого газа.
Сама система достаточно сложная, в первую очередь, для импортеров, которым сначала придется покупать сертификаты на выбросы углекислого газа, который образуется при производстве приобретаемой за рубежом продукции, а затем обращаться за вычетами. Для бюрократии здесь и в самом деле будет раздолье.
Фишка здесь заключается в том, что из тарифа будет вычитаться стоимость разрешений на выбросы углекислого газа, приобретенных экспортером у себя в стране. Поэтому углеродные тарифы не приведут к существенному снижению конкурентоспособности российских металлургов по сравнению с европейскими (тем в ближайшие годы, судя по всему, будет вообще совсем грустно).
Проблема в том, что данные тарифы ставят российские компании в невыгодное положение по сравнению с коллегами в Великобритании, Канаде или где еще будет введена плата за выбросы углекислого газа. Таким образом, углеродные тарифы — это, в первую очередь, инструмент для навязывания другим странам своих правил, превращение металлургов, заинтересованных в европейском рынке, в лоббистов европейской климатической политики, разрушительной для экономики. К слову сказать, с 16 июля систему торговли разрешениями на выбросы запустили и в Китае несмотря на проблемы с верификацией данных. Получили цену $8,20 за тонну CO2.Но это, как говорится, только пока.
В последние месяцы проблема «декарбонизации» стала весьма актуальной и для металлургических компаний в России (и Украине тоже). Ряд производителей объявили о запуске проектов, направленных на снижение выбросов углекислого газа. Причем для них самих это исключительно лишние расходы, которые не будут направлены на что-либо более полезное, и рост себестоимости. Для потребителей стальной продукции «декарбонизация» приведет только к повышению цен при полном отсутствии каких-либо положительных эффектов.
Да, приходится признать, что климатическое «окно Овертона» уже открыто настежь, и из него дуют не вонюченькие сквознячки, а вполне настоящие ураганы, что даже на уровне высшего руководства России заявляется о важности борьбы с выбросами углекислого газа, что российским компаниям с мало-мальски заметным зарубежным бизнесом приходится не только произносить нужные мантры, но и выбрасывать на воздух реальные деньги. Однако тем более важно не поддаваться модному климатическому безумию, а сосредоточиться на более вещественных и существенных проблемах.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Логика обстоятельств сильнее логики намерений, примерно так сказал один известный государственный деятель. Поэтому любые планы и ожидания должны так или иначе сверяться с реальной обстановкой.
Так, вполне понятно желание российских металлургических компаний продлить июньские внутренние цены на июль и максимизировать объемы экспорта на ближайшие две-три недели. Однако и то, и другое, скорее всего, недостижимо. Российский рынок проката уже однозначно развернулся в сторону понижения, а текущая конъюнктура за рубежом не благоприятствует поставщикам.
Вопрос о ценах на стальную продукцию в России и после объявления об экспортных пошлинах не исчез с повестки дня. Более того, им предметно заинтересовалась Генпрокуратура. ФАС намерена в конце июля потребовать объяснений от металлургических компаний. Периодически с различных трибун продолжают раздаваться призывы о государственном регулировании цен на важнейшие товары.
Вообще-то, путь директивного регулирования, как говорится, ведет в никуда. Причем основная проблема здесь заключается в кадрах. Кто возьмет на себя адский труд по расчету цен и балансов? Нет ни людей, ни методики, ни соответствующей сети сбора и обработки данных. Поэтому возвращения к советскому прошлому не будет — ни в крупных делах, ни по мелочам.
Другое дело — рыночное регулирование. Экспортные пошлины на металлопродукцию, которые вступят в силу с 1 августа, представляют собой инструмент грубой настройки. Он не отличается продуманностью и совсем не гибок. Но, очевидно, эта система постепенно будет настраиваться.
Еще один подход продемонстрировали на прошлой неделе китайские товарищи, выставившие на продажу на государственной электронной торговой площадке 100 тыс. т алюминия, цинка и меди из госрезерва. Целью этой акции было объявлено снижение завышенных цен на металлы. Первый блин, как водится, выдался комковатым. Все лоты разметали за полчаса, а общий уровень заявок был всего лишь на 1,6-5,3% ниже биржевых котировок. Очевидно, с учетом китайских масштабов интервенция оказалась слишком мала. Впрочем, и резервы в закромах у китайцев не слишком велики — не более 5% от годового потребления меди и алюминия.
Некоторое время назад и у нас выступали с идеей демпфирования ценовых колебаний с помощью закупок проката в госрезерв во время спадов и распродаж в период подъемов. Так что, этот китайский опыт следует принять во внимание.
Основной движущей силой на российском рынке стальной продукции продолжает тем временем оставаться строительный сектор, а в нем при обвале коммерческого и индивидуального строительства лидируют государственные инфраструктурные проекты и возведение жилых домов. Причем подъем в этих отраслях представляет собой долгосрочную тенденцию. Поэтому и цены на прокат строительного назначения, как правило, демонстрируют наибольшую устойчивость. Хотя они, конечно, тоже снижаются.
По-видимому, сезонный пик потребления в строительном секторе поможет российскому рынку проката избежать обвала. Спад за июль-август составит предположительно 10-20% по сравнению с июньским пиком, вряд ли более. С другой стороны, очень сомнительно и то, что после введения пошлин в августе российские металлурги смогут поднять внутренние котировки, чтобы компенсировать уменьшение прибыли по экспортным поставкам. Для этого будут нужны острый дефицит, ажиотажный спрос и, не в последнюю очередь, полноценный подъем за рубежом в качестве ориентира.
Если эффект отложенного спроса действительно может проявиться на российском рынке ближе к осени, то ждать нового роста внешних котировок в ближайшем будущем весьма сложно. Мировая экономика снова тормозит, а замедляет ее все тот же коронавирус. Новая волна этой заразы — отнюдь не только российская проблема. Причем если у нас все пока что ограничивается, в основном, QR-кодами и призывами ко всеобщей вакцинации, то в ряде других стран, как говорится, все по-взрослому.
Так, в Хошимине, втором по величине городе Вьетнама, объявлен двухнедельный жесткий карантин с закрытием магазинов (кроме продовольственных), учреждений и предприятий, а также прекращением работы общественного транспорта. Причем во всем 96-миллионном Вьетнаме с января 2020 г. было выявлено меньше случаев заражения, чем порой выявляется сейчас в России за сутки.
Ограничения той или иной степени жесткости действуют в настоящее время почти во всех крупных азиатских странах, включая Индию, Индонезию и Японию. И этот фактор достаточно заметно влияет на региональный рынок стальной продукции. Спрос там резко сузился по сравнению с весной, а стоимость проката снижается. Окончательно упасть ей, пожалуй, мешают только относительно высокие затраты на сырье и логистику. Так, по данным французской ассоциации судовладельцев Armateurs de France, тарифы на контейнерные перевозки в начале июля достигли нового максимального значения за последние полтора года. Причем нормализации обстановки не ожидается, как минимум, до весны 2022 г.
Отдельная история с Китаем. Правительство КНР явно поставило себе задачу не дать никому скучать и успешно ее решает, во всяком случае, на рынке металлов. Проблем с коронавирусом в Китае нет, но там, похоже, подхватили «зеленую» (она же «климатическая») болезнь в острой форме.
В начале июля власти страны заявили, что в целях борьбы с выбросами углекислого газа важно не допустить, чтобы выплавка стали в стране в 2021 г. превысила прошлогодний уровень. Проблема заключается в том, что по итогам первых пяти месяцев текущего года производство уже выросло более чем на 55 млн. т по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а по итогам всего полугодия превышение может составить 60 млн. т. Ориентировочно, объем выплавки при этом достиг порядка 570 млн. т. Таким образом, чтобы выполнить заявленную задачу и вписаться в прошлогодние 1065 млн. т, в июле-декабре надо будет уменьшить выплавку стали до менее 500 млн. т, т. е. примерно на 18% по сравнению с первым полугодием!
От одного только осознания подобной перспективы биржевые котировки в Китае бодро рванули вверх и достигли максимальных отметок более чем за полтора месяца. Напомним, что именно тогда, в середине мая, в Китае наблюдался резкий скачок цен, который пришлось срочно сбивать административными мерами.
Причем никакого обвала в китайской экономике, который мог бы оправдать подобный спад производства стали, нет и не предвидится. Да, прогнозируется снижение темпов роста за счет уменьшения капиталовложений в жилищное и инфраструктурное строительство. Да, могут сократиться экспортные заказы на китайские товары. Но не до такой же степени!
Впрочем, эта встряска способствовала тому, что китайские металлургические компании снова начали поднимать внешние котировки. Так, горячекатаный прокат, который в конце июня мог стоить $830-850 за т FOB, теперь предлагается, по меньшей мере, по $870-900 за т. Вероятность того, что в Китае могут быть введены экспортные пошлины на прокат, при этом не исчезла, но такое впечатление, что китайские металлурги просто «перебоялись».
Тем не менее, в условиях низкого спроса на металлопродукцию на основных рынках китайские компании остаются конкурентами для российских. А еще больше проблем доставляют индийские производители. Внутренний спрос в самой Индии слабый из-за коронавирусных ограничений и дождливого сезона, поэтому они расширяют экспортные поставки. В первом полугодии приоритетным направлением для них была Европа, но теперь у них больше нет свободных квот, а Европейская комиссия угрожает им антидемпинговыми пошлинами. Из-за этого индийский горячекатаный прокат перетекает в Турцию, сбивая цены на российскую продукцию.
В самой Европе в конце июня листовой прокат немного подешевел, но снова возобновляет рост вследствие сохраняющегося дефицита и высокой обеспеченности местных компаний заказами. В США подъем и вовсе не прекращался, а котировки на горячекатаный прокат достигли совершенно невероятного значения — $2000 за т EXW! Впрочем, эти цены уже настолько высоки, что американские компании начали наращивать импорт несмотря на необходимость уплаты 25% тарифа.
ФРС и Европейский центральный банк пока игнорируют регистрируемый в этих регионах рост инфляции. Они отговариваются тем, что ориентируются на среднее значение этого показателя за длительный период, а в этом случае отдельными флуктуациями можно пренебречь. Поэтому та же ФРС заявляет, что пока не планирует повышать процентные ставки, как минимум, до 2022-го, а то и до 2024 г.
Так что, накачка западных экономик деньгами будет продолжаться. А если Конгресс США утвердит инфраструктурную программу президента Байдена, а Еврокомиссия выделит средства на построение безуглеродной экономики, следует ожидать и реального расширения спроса на ресурсы. Правда, при этом рынки стали в США и ЕС будут становиться все более закрытыми, а разница в стоимости стальной продукции между ними и прочим миром продолжит расти.
Правда, и это тоже пока лишь намерения. А объективные обстоятельства… они могут повернуться по-всякому. Осень этого года может оказаться очень жаркой.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Введение экспортных пошлин с 1 августа продолжает оставаться главной темой в российской металлургической отрасли. Более того, данный фактор начал оказывать влияние и на мировой рынок стальной продукции. Естественно, металлургические компании встретили нововведение в штыки и продолжают искать аргументы в пользу отмены тарифов. Так, с предложением отложить их до проведения детального анализа последствий для металлургов обратилась к премьер-министру Ассоциация электрометаллургических предприятий (АЭМП).
Ее аргументы заключаются в том, что большинство электрометаллургических предприятий в России не имеют собственной сырьевой базы и производства продукции высокого передела либо географически удалены от рынков сбыта, что делает их функционирование невозможным при нестабильных условиях экспортной деятельности. При этом рентабельность электрометаллургических предприятий до 3 раз ниже, чем у вертикально-интегрированных холдингов — особенно, сейчас, когда горячекатаный прокат, который обычно шел на экспорт лишь на 10-20% дороже заготовки, сейчас превышает ее в 1,5-1,6 раза.
Кроме того, российских электрометаллургов беспокоит то, что экспортные пошлины на стальную продукцию несут серьезный риск взрывного роста цен на основное сырье – лом черных металлов. Как заявляет АЭМП, новые вывозные пошлины на готовую продукцию будут в 1,5 раза больше, чем на металлолом (70 евро за т), что сделает вывоз сырья из страны выгоднее, чем экспорт полуфабрикатов или арматуры. В конечном итоге, такая ситуация приведёт к оттоку лома черных металлов на экспорт и остановке ряда экспортно-ориентированных производств низкого передела.
Итак, получается, что для мини-заводов ключевым становится вопрос о металлоломе. Однако ситуация здесь все-таки не совсем такова, как заявляет АЭМП и ее члены.
Прежде всего, утверждения о том, что из-за разницы в ставках пошлины российский экспорт заготовки и сортового проката может быть вытеснен экспортом металлолома, выглядят несколько натянутыми. Во-первых, поставками за рубеж лома и стальной продукции занимаются совершенно разные компании. Причем если у крупных металлургических групп есть подконтрольные «Вторчерметы», но независимые мини-заводы скупают лом с рынка. Конечно, они могут взять свои запасы и толкнуть их за рубеж вместо заготовки, но, как говорится, только один раз.
Во-вторых, выгодность внешних поставок лома и стальной продукции определяется не только уровнем экспортных пошлин. Для металлолома ставка составляет около $82,5-84 за т (в зависимости от соотношения доллара и евро), для заготовки, сортового проката, толстого листа — $115 за т, т. е. все-таки не в полтора раза, а на 36-38% больше. Однако и экспортная цена лома составляет около т 430-445 за т FOB порты Черного/Азовского моря, тогда как заготовка (самый уязвимый вид стальной продукции из расчета соотношения цен и пошлины) в конце июня продавалась примерно по $640 за т FOB.
Безусловно, дело здесь не столько в продажной цене, сколько в себестоимости. Для экспортеров лома ключевое значение имеет уровень закупочных цен в портах. До объявления о введении вывозных пошлин на черные металлы и их повышении на лом данные показатели на юге находились где-то в интервале 25-26 тыс. руб. за т CPT, что соответствовало, в среднем, $350 за т. При условии, что стоимость лома на мировом рынке существенно не изменится в ближайший месяц (а вероятность этого достаточно велика), экспортерам лома, чтобы компенсировать увеличение пошлины примерно на $30 за т, придется опустить на ту же величину закупочные цены.
Таким образом, чтобы конкурировать с экспортерами, мини-заводам будет достаточно предлагать ломосборщикам в августе более 24 тыс. руб. за т с доставкой, что примерно на 2-4 тыс. руб. за т меньше, чем в конце июня. Понято, что это самая грубая схема, но факт, что электрометаллурги могут рассчитывать на снижение сырьевых затрат вследствие подъема экспортных пошлин на лом, а не должны бояться их увеличения, налицо.
Само собой, этот выигрыш будет гораздо меньше, чем потери от тарифов на металлопродукцию, но утверждение о том, что пошлины убьют российский экспорт заготовки и сортового проката, пожалуй, несколько преувеличено. В конце концов, в первой половине февраля отечественные компании продавали за рубеж заготовку по $530-550 за т FOB и приобретали металлолом по 25-27 тыс. руб. за с доставкой и не сетовали на убыточность.
Что касается производителей листового проката, то им вообще грех жаловаться. Вычитание из их нынешних внешних котировок экспортной пошлины лишь возвращает цены на уровень конца первого квартала текущего года, который был для них исключительно финансово успешным. По крайней мере, у «большой тройки» показатель EBITDA по итогам января-марта 2021 г. был на 65-110% выше, чем в тот же период годом ранее.
В то же время, мини-заводы, безусловно, совершенно правы в том, что экспортная пошлина отбрасывает их рентабельность на уровень практически начала-середины осени прошлого года, когда подъем цен еще не стартовал. В наиболее сложном положении окажутся предприятия, для которых внешние поставки заготовки составляют основной доход. Кстати, с такими же проблемами столкнутся и экспортеры товарного чугуна, стоимость которого в настоящее время почти такая же, как у стальных полуфабрикатов.
Фактически об этом же говорит в своем заявлении Ассоциация предприятий чёрной металлургии «Русская Сталь». По ее оценкам, введение пошлин может привести к падению рентабельности предприятий, выпускающих ГБЖ, чугун, товарную заготовку. Это вызовет при сохранении нынешних цен на мировом рынке сокращение экспорта на 1 млн. т на сумму $552 млн., а при их снижении – на 2,5 млн. т на сумму $1 млрд.
Так как первом случае средняя цена составит $552 за т, а во втором – $400 за т, речь действительно идет, прежде всего, о железе прямого восстановления, в меньшей степени, о более дорогостоящих чугуне и заготовке. А вот слябы стоят сейчас чуть ли не в полтора раза дороже заготовки, да и нет в России сейчас заводов, для которых эта продукция является профилирующей.
Так что, их поставщикам разорение и остановка доменных печей, как предупреждает «Русская Сталь», точно не грозят. Да и действовать пошлины все-таки будут только пять месяцев. На такой срок останавливать и вновь запускать доменную печь просто не целесообразно.
И арматура тоже менее уязвима. Все-таки, большая ее часть продается на внутреннем рынке, а крупнейшим импортером является Казахстан, член ЕАЭС. И при нынешней внутренней цене порядка 55-60 тыс. руб. за т EXW без НДС трудно поверить, что кто-то из ее производителей уже находится на грани нулевой рентабельности. Пожалуй, представители металлургов все-таки слишком нагретают.
В Турции разница в стоимости металлолома (CFR) и заготовки (FOB) составляет около $170-190 за т. Конечно, там дороже электроэнергия и природный газ, но и лучше логистика. Если принять примерно такое же соотношение для российских компаний, получится, что при нынешних внутренних ценах на металлолом введение пошлины снижает рентабельность поставщиков полуфабрикатов до минимума. А стоит заготовке упасть хотя бы на $30-40 за т от текущего уровня, как у них начнутся проблемы. Причем этот сегмент мирового рынка стали — один из наиболее конкурентных. Заместить российскую продукцию там есть, кому.
Возможно, АЭМП и «Русская Сталь» могли бы направить свои усилия не на попытку отмены экспортных пошлин на металлы (этого, скорее всего, не произойдет), а на модификацию данного механизма с введением в него четвертой категории — черных металлов с продажной ценой от $400 до $700-750 за т. В нее как раз войдут и заготовка, и товарный чугун. Для них минимальную пошлину можно было бы установить на уровне $70-80 за т, что существенно снизило бы потери металлургов. Или, как предложила «Русская Сталь», нужно предусмотреть возможность оперативной модификации минимальных пошлин и ставок. Впрочем, возможно, такая более гибкая система появится в будущего года, сменив нынешнюю.
Вот кто оказался сейчас в по-настоящему сложном положении, так это компании, покупающие в России прокат для дальнейшей переработки и частичного экспорта за рубеж полученной «подтарифной» продукции. Их у нас немного, но они есть, и вот для них как раз необходимым выглядит освобождение от действия экспортных пошлин.
Впрочем, здесь возникает другой ключевой вопрос: будут ли экспортные ограничения способствовать снижению внутренних цен на металлопродукцию? Ведь именно это было заявлено главной целью эпопеи с пошлинами. Пока что металлурги стремятся пролонгировать на июль свои цены для российских покупателей, однако на рынке преобладают понижательные ожидания.
В то же время, некоторые российские производители поспешили активизировать экспортные операции, стремясь успеть до введения пошлин. Однако текущая рыночная ситуация не благоприятствует подобным сделкам. Ряд стран сократили спрос на листовой прокат вследствие ухудшения коронавирусной обстановки. Китай значительно уменьшил закупки заготовки из-за дождливого сезона и ожидаемого во втором полугодии сужения спроса на прокат со стороны строительного сектора.
Кроме того, китайским металлургам тоже светят (или, наверное, грозят) экспортные пошлины на стальную продукцию. Поэтому ряд поставщиков устроили свою дешевую распродажу. Горячекатаный прокат толщиной от 3 мм в конце июня предлагался некоторыми китайскими компаниями во Вьетнам по $850-870 за т CFR, и это нижняя планка, на которую приходится ориентироваться и российским экспортерам в Азию.
В Турции первой реакцией на введение экспортных пошлин в России стало повышение цен на листовой прокат. Ведь предполагалось, что поставщики поднимут котировки, чтобы уменьшить свои потери. Но теперь рынок, похоже, разворачивается вниз. Удешевление стальной продукции отмечалось в последние дни и в Европе. Таким образом, российские компании, стремясь расширить внешние поставки в июле, могут спровоцировать спад на мировом рынке, который будет очень трудно остановить. Особенно, если вследствие торможения китайской экономики пойдет вниз железная руда. По крайней мере, такое развитие событий на рынке ЖРС прогнозируют сейчас все специалисты.
Однако если цены на прокат упадут за рубежом, то и российский рынок вряд ли сможет удержаться на вершине. Значит, так или иначе, криво или косо, но свою роль экспортные пошлины все же должны сыграть. Правда, здесь есть и другие риски. В последние недели дистрибьюторы и конечные потребители сократили закупки дорогостоящего проката в расчете на его удешевление в будущем. Это может привести к эффекту отложенного спроса, дефициту и скачку цен в августе-сентябре.
В общем и целом, трясти наш рынок будет еще долго. И, по правде говоря, не с пошлин это началось.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Как говорится, сюрпри-и-из! Если ничего радикально не изменится, с 1 августа и по 31 декабря в России при поставках за пределы ЕАЭС будут действовать экспортные пошлины на черные и цветные металлы в размере 15%, но не меньше определенного минимального значения, который для чермета составит от $54 до $150 за т.
Насколько можно понять из обсуждения этого вопроса на заседании правительства 24 июня, для продукции стоимостью до $400 за т (очевидно, FOB) данный наименьший уровень составит $54 за т. Он будет взиматься при цене до $360 за т, дальше пошлина будет считаться по ставке 15%. Под это подпадают окатыши и ГБЖ. Ничего пока не было сказано о металлоломе.
Следующий уровень — арматура, г/к прокат, очевидно, полуфабрикаты и другая стальная продукция низкого передела. Для нее минимальная пошлина составляет $115 за т, которая будет взиматься при цене до $766,7 за т, дальше тариф уменьшается до 15%.
Холоднокатаный прокат, метизы при стоимости до $886,7 за т будут облагаться по фиксированной ставке $133 за т, а дальше пошлина будет составлять те же 15%. Наконец, для нержавеющей стали и ферросплавов дороже $1300 за т минимальный платеж устанавливается на уровне $150 за т, что соответствует продажной цене в $1000 за т.
Здесь не совсем понятно, к какой категории отнесут оцинкованную сталь, которая в последние пару месяцев поставлялась на экспорт более чем по $1300 за т FOB, но, очевидно, при подготовке реального постановления, которое должно быть подписано до 30 июня, все непонятные места должны быть прояснены. Важно сейчас то, как эти меры скажутся на российском рынке стальной продукции.
Безусловно, металлургические комбинаты восприняли это новшество резко отрицательно и сразу же начали критиковать его, указывая на возможные слабые места. Если взять, например, отзыв от Группы НЛМК, возражения заключаются в следующем.
Первое. Тарифы затрагивают всю номенклатуру металлопродукции, включая ту, для которой отсутствует российский рынок потребления (например, стальные полуфабрикаты и чугун). Введение пошлины на такие продукты не приведет ни к увеличению объема поставок на рынок РФ, ни к снижению цен для российских конечных потребителей, а только к падению доходов металлургов.
Второе. Введение пошлины, в первую очередь, отразится на электрометаллургии, которая работает на дорогом ломе, и потенциально приведет к падению рентабельности ниже нуля. Это создает реальную угрозу сокращения экспорта и производства, например, сортовой заготовки, так как российское потребление такой продукции отсутствует или недостаточно.
Третье. Предлагаемый механизм фиксации пошлины не ниже определенного уровня для любой рыночной цены является рискованным на фоне ожидаемой нормализации мировых цен. Например, если цена на экспортный горячекатаный прокат снизится до среднего за последние несколько лет уровня, эффективная ставка пошлины составит 25%, что является запретительным даже для эффективных производителей.
Четвертое. Введение экспортных пошлин создает риски ответных мер других стран в отношении российского экспорта. Это приведет к сокращению присутствия российских металлургов на внешних рынках и замещению российской продукции металлом других стран-экспортеров, например, Украины или Турции. Вернуться на эти рынки российским производителям будет сложно, особенно с учетом того, что количество доступных рынков уже существенно сократилось за последние годы из-за возведения в различных странах торговых барьеров.
Что же, пройдем по всем этим пунктам. Да, введение экспортных пошлин на железорудное сырье выглядит неоправданным. На российском рынке нет острой проблемы завышения цен на эту продукцию. Доменное производство сосредоточено, главным образом, в составе вертикально интегрированных групп, в значительной мере самостоятельно обеспечивающих себя ЖРС. Поставки, в том числе, из Казахстана для Магнитогорского меткомбината, по большей части, осуществляются по долгосрочным соглашениям.
Экспорт железорудного сырья из России никаким образом не затрагивает интересы других производителей. А для группы «Металлоинвест» эта деятельность представляет собой одно из важнейших направлений бизнеса. При этом пошлина в размере от $54 за т на ее продукцию выглядит весьма завышенной, особенно, на окатыши, стоимость которых немногим более $200 за т FOB. Убыточными они не станут, но пошлина срежет большую часть прибыли.
Стоимость товарного чугуна на мировом рынке сейчас превышает $600 за т, так что размер пошлины для его поставщиков будет составлять порядка $90-100 за т, что фактически приведет к снижению стоимости данной продукции примерно до уровня конца прошлого года. Не смертельно, но неприятно, учитывая существенное подорожание сырья с тех пор. Вообще-то немалая часть выплавляемого в нашей стране чугуна продается на российском рынке, но его емкость ограничена и оперативно увеличена быть не может. Поэтому введение пошлины действительно не приведет к улучшению снабжения российских потребителей.
С заготовкой все гораздо сложнее. Прежде всего, экспортная цена на нее в последнее время не превышает $630-650 за т FOB, а при вычитании из нее фиксированных $115 получится порядка $515-535 за т. Много это или мало? Такие цены (на самом деле, чуть выше), были в начале февраля либо в начале декабря прошлого года. Тогда российские компании, помнится, не жаловались на отрицательную рентабельность, хотя были не в восторге, да.
Ключевое значение здесь будет, конечно, иметь стоимость металлолома. Сейчас он обходится российским производителям примерно по $375-390 за т с доставкой без НДС. Так что, даже после введения пошлины экспортная цена позволит им получать прибыль, хотя маржа, конечно, резко сократится. В то же время, весьма вероятно, что новые ограничения на экспорт металлолома позволят металлургам добиться снижения цен на него.
Кроме того, большинство российских производителей заготовки могут варьировать свой сортамент, повышая или понижая долю товарных полуфабрикатов, которые идут на экспорт, и сортового либо фасонного проката, который продается, по большей части, на внутреннем рынке.
На самом деле, важнейший вопрос, связанный с введением пошлин, заключается в следующем: приведет ли их появление к снижению цен на внутреннем рынке или пройдет для него незамеченным? А может, комбинаты, раздосадованные конфискацией у них порядка 5% годовой валовой прибыли (113-114 млрд. руб., по оценкам первого вице-премьера Андрея Белоусова при ожидаемой в 2021 г. доналоговой прибыли в 2,1-2,3 трлн. руб.), наоборот, поднимут цены для российских потребителей?
Вообще-то, имеющийся опыт показывают, что экспортные пошлины обычно приводят к снижению внутренних цен. В частности, такой спад в феврале наблюдался на рынке металлолома. Представляется, что в ответ на снижение доходности экспортных операций производители увеличат объем предложения на внутреннем рынке и тем самым создадут избыток, ведущий к ценовому спаду.
Здесь надо учитывать еще один немаловажный аспект. Введение экспортных пошлин не помогло бы российским потребителям в марте-мае, когда на мировом рынке наблюдался подъем, а металлопрокат расхватывали, как горячие пирожки. Тогда комбинаты и в самом деле имели бы возможность поднять внутренние котировки, компенсируя падение доходности от операций за рубежом.
Однако сейчас все изменилось! Мировые цены на сортовой прокат и заготовку достигли относительной стабилизации, зажатые снизу дорогостоящим металлоломом, который в ближайшие месяцы вряд ли упадет существенно ниже $500 за т CFR в Турции и Восточной Азии, а сверху — котировками на арматуру и полуфабрикаты в Китае. В секторе листового проката российским компаниям (за исключением ориентирующейся на Европу «Северстали») также приходится сбавлять цены под влиянием ослабевшего спроса и конкуренции со стороны китайских и индийских поставщиков.
Собственно, стоимость стальной продукции в России в июне и так была сильно завышенной по сравнению с экспортной, причем превышение внутренних цен над экспортным паритетом могло достигать для арматуры и горячекатаного проката 15 тыс. руб. за т и более. И сужение этого разрыва уже началось. Так, некоторые крупные производители сварных труб добились от комбинатов падения цен на рулон до около 90 тыс. руб. за т CPT, что как раз практически соответствует экспортному паритету.
Вообще, металлурги могли бы взять пример с производителей удобрений, которые на прошлой неделе как раз объявили о заморозке цен на калий и аммиачную селитру на весь полевой сезон на уровне мая текущего года. Это означало подорожание данных видов продукции для российских потребителей соответственно на 15 и 25-30% по итогам года, тогда как на мировом рынке рост превысил 70%. Такой вариант, пожалуй, устроил бы всех и на рынке стали. Но жадность, жадность!.. Иногда от нее бывают проблемы…
С другой стороны, риск падения экспортных цен на российскую стальную продукцию до конца текущего года до такой степени, что пошлина в $115 за т убьет внешние поставки, не слишком велик. По крайней мере, их возвращение на «средний за последние несколько лет уровень» (порядка $500 за т FOB) может произойти лишь в случае какого-то особо разрушительного экономического катаклизма мирового масштаба. Но тогда и пошлины точно отменят.
В США горячекатаный прокат превысил $1850 за т EXW, в Евросоюзе корпорация ArcelorMittal возобновила практику повышений котировок в конце недели, доведя базовые цены на горячекатаный прокат до 1200 евро за т EXW. Причем, по мнению американских и европейских специалистов, существенного понижения, как минимум, до конца текущего года не ожидается. При этом может так получиться, что на других региональных рынках котировки на сортовой и листовой прокат будут определяться по формуле: европейская или американская цена минус 25% тарифа минус стоимость доставки минус антидемпинговая пошлина. Если г/к прокат в ЕС будет стоить те самые 1200 евро за т, то российские компании смогут поставлять туда свою продукцию сверх квоты, как минимум, по $900-1000 за т FOB или $765-850 за т за вычетом экспортной пошлины. Уровень начала-середины марта, если что, хотя железорудное сырье тогда таки да, стоило на 20% дешевле.
Наконец, ответных мер от «партнеров» можно опасаться лишь при введении экспортных пошлин на сырье. Это может быть расценено как несправедливое преимущество для металлургов. А вот все антидемпинговые процессы исходят из того, что некие компании продают свою продукцию на экспорт дешевле, чем на внутреннем рынке. А если дороже (включая экспортную пошлину), то к этому никто не прицепится.
Так или иначе, временное введение экспортных пошлин на металл следует расценивать как первый шаг к созданию постоянно действующей системы по регулированию рынка с помощью индикативных цен и плавающих экспортных тарифов. Как это, например, уже работает в зерновом секторе. Так, например, экспортная пошлина на зерно рассчитывается еженедельно на основе мировых цен. Она начинает взиматься, если цена на бирже превышает $200 за тонну пшеницы или $185 за тонну кукурузы и ячменя. В этом случае она составляет 70% от разницы между ценой контракта и данной индикативной ценой.
Как раз с 30 июня Минсельхоз откорректировал пошлины на пшеницу и кукурузу, повысив их соответственно на $3,0 и $0,3 за т, исходя из изменений мировых цен на эти культуры. Через неделю последует новая коррекция. Очень похоже, что в следующем году мы увидим действие похожего механизма и на рынке металлов.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Безусловно, в центре внимания всего мира на прошлой неделе была встреча в Женеве, состоявшаяся 16 июня. Ее результаты неочевидны и, вероятно, постепенно проявятся в будущем. Однако для мирового рынка стали не менее важной была и проведенная 15 июня в Брюсселе встреча американского президента с главами европейских стран.
На ней было провозглашено намерение усилить консолидацию западных стран, прежде всего, против Китая, который рассматривается как главный экономический соперник, и против России как главного политического противника. При этом западные страны заявили о желании, по возможности, снять торговые противоречия и конфликты в своем междусобойчике.
В частности, речь идет о весьма вероятной отмене американских стальных пошлин для европейских металлургических компаний. В ответ Евросоюз снимет ограничения на импорт стали, алюминия и ряда других товаров из США. При этом для прочих поставщиков тарифы в США и квоты в ЕС остаются в силе.
На прошлой неделе европейские страны поддержали предложение Еврокомиссии о продлении действия квот на импорт стальной продукции еще на три года. Официального заявления на этот счет еще нет, потому и цены на листовой прокат в ЕС пока сохраняют относительную стабильность при низком видимом спросе. Но в дальнейшем велика вероятность нового повышения.
Европейские компании уже практически восстановили докризисное производство стали и увеличивать выпуск в обозримом будущем не собираются. Поэтому дефицит проката на региональном рынке никуда не денется. Сократить его может только значительный спад реального потребления. Однако пока что в европейской экономике доминируют положительные ожидания.
В США рост цен и не прекращался. В середине июня базовые котировки заводов на горячекатаный прокат превысили отметку $1850 за т EXW в штатах Среднего Запада. Причем основной причиной этого подъема является повышенный спрос, пусть даже искусственный, возникший вследствие обильного насыщения экономики деньгами. ФРС США 16 июня оставила базовую ставку на прежнем уровне 0-0,25%, так что, по крайней мере, в ближайшем будущем эта политика продолжится.
Вообще, западные страны, объявляя сближение друг с другом, все больше отгораживаются от остального мира. В 2023 г. ЕС планирует запустить в пилотном режиме углеродные тарифы, которые очень сильно затруднят поставки стальной продукции в Европу. Только при выплавке чугуна и стали в доменно-конвертерном процессе на тонну стали образуется, в среднем, 1,85 тонны углекислого газа, за которые придется заплатить по нынешним ценам порядка 94-96 евро, а в 2023 г. эта сумма вполне может возрасти на десятки процентов.
Как заявляют эксперты, если металлурги из других стран захотят сохранить возможность поставок стальной продукции в ЕС, им придется принять европейские правила игры. Заменить доменные печи электропечами, а природный газ — водородом, использовать электроэнергию, выработанную на ветряных и солнечных установках. Кроме того, крайне желательно введение высокой платы за выбросы углекислого газа.
Все эти меры приведут только к высоким расходам, особенно, на водородные технологии, которые пока что совершенно не отработаны в промышленном масштабе, обострению дефицита и без того подорожавшего металлолома и резкому повышению себестоимости стальной продукции. При этом потребители получат от этого только резкий подъем цен при абсолютно неизменном качестве и, так сказать, моральное удовлетворение.
Недавно наш президент предложил в качестве альтернативы всему этому безумию вкладывать средства в поглощение углекислого газа, например, посредством насаждения лесов. Так, по крайней мере, себестоимость металла (без учета накладных расходов) останется на том же уровне. Посмотрим, как отреагирует Евросоюз на этот прием из арсенала дзю-до, но вообще-то создается впечатление, что на европейском рынке российским металлургам через несколько лет придется поставить крест. По крайней мере, альтернатива с прогибом всего мира под климатический диктат выглядит куда более неприглядной.
Так или иначе, цены на стальную продукцию в ЕС и США в обозримом будущем продолжат рост или, по крайней мере, не сильно снизятся. Существенный спад там произойдет только в том случае, если ФРС США и Европейский центральный банк начнут бороться с инфляцией, повышая процентные ставки и урезая денежные пайки. Но пока что признаков скорого поворота нет. Западные специалисты вынуждены признавать, что инфляция в мае достигла рекордного уровня с лета 2008 г., но по-прежнему заявляют, что эти проблемы преходящи, и скоро все нормализуется. Как говорится, посмотрим, но зима (2008/2009 гг.) близко!
В других регионах, между тем, стоимость стальной продукции либо относительно постоянная, либо уменьшается. В частности, упал спрос во Вьетнаме, где обострилась коронавирусная обстановка. Из-за этого существенно подешевел и продолжает дешеветь индийский и китайский горячекатаный прокат. Понижение на рынке данной продукции наблюдается и в Турции, а экспортные котировки на российские горячекатаные рулоны движутся вниз по направлению к отметке $1000 за т FOB.
В Китае на бирже сохраняется волатильность, но стальная продукция в целом стабилизируется, уменьшая размах ценовых колебаний. В правительстве КНР продолжают заявлять о необходимости ценового контроля, снижении производства и экспорта стали. Вопрос об экспортных тарифах не снят с повестки дня, но власти умело держат паузу. По данным Fastmarkets и Argus, средний уровень цен на китайский горячекатаный прокат толщиной более 3 мм в реальных сделках понизился до около $900 за т FOB. Правда, объем внешних поставок сравнительно невелик.
Импортная заготовка в Китае также стабилизируется немногим ниже отметки $700 за т CFR. А нижнюю границу для этой продукции очерчивает металлолом, укрепившийся в районе $490-520 за т CFR в Турции и странах Восточной Азии. При высоком спросе на это сырье и ограниченном предложении вряд ли оно в обозримом будущем намного подешевеет.
Россия, расположенная между Западом и Востоком, как всегда, находится в неком промежуточном состоянии. Одни участники отечественного рынка стальной продукции ориентируются на Европу и намерены продолжить повышение заводских цен в июле. Спрос на прокат строительного назначения находится на летнем пике, что тоже обуславливает его дороговизну.
В то же время, дистрибьюторы и конечные потребители настроены на понижение. Практически никто не покупает прокат в запас, так как считает маловероятным дальнейшее подорожание. Наоборот, металлотрейдеры боятся обвального падения цен. На споте заметно уменьшение котировок на холоднокатаный прокат. Значительно подешевели сварные трубы, а их производители получили весьма серьезные уступки от некоторых меткомбинатов.
Вполне вероятно, что российский рынок в итоге разделится надвое. Кто-то из производителей будет указывать высокие цены (особенно, если у него останется благодатная европейская альтернатива), а остальным, скорее всего, придется пойти на некоторое снижение. Во всяком случае, за пределами западных стран конъюнктура мирового рынка ухудшается.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Экономика — это очень большая и сложная система, развивающаяся по своим законам. В ней можно читерить, вбрасывая в нее триллионы свежеотпечатанных бумажек, которые все еще считаются настоящими деньгами. Можно вносить в нее искажения, искусственно прерывая товарные потоки с помощью протекционизма или зажимая ее в тиски административных ограничений.
Однако все эти действия вызывают соответствующую реакцию. Не сразу, не быстро и порой не заметно, но любые значительные изменения обстановки вызывают мощные макроэкономические процессы — как смешение определенных ингредиентов запускает химическую реакцию.
Статистика за май показала резкое ускорение инфляционных процессов, которые уже начали перетекать в реальный сектор. Так, в США индекс потребительских цен (CPI) достиг 5,0%, что стало наивысшим показателем с августа 2008 г. В Китае индекс цен производителей (PPI) вышел на уровень 9,0%, что стало максимальной отметкой с сентября 2008 г. Правда, потребительская инфляция в КНР все еще остается низкой — 1,6%.
Вопрос о том, стоит ли начинать беспокоиться, остается открытым. Многие эксперты, представляющие уважаемые финансовые организации, заявляют, что этот скачок имеет временный характер, а в дальнейшем ситуация нормализуется.
Например, по данным компании Lazard Asset Management, половину американского инфляционного показателя создали автомобили, новые и подержанные, резко подорожавшие из-за сокращения производства вследствие нехватки микропроцессоров, автостраховки и билеты на авиарейсы. Подъем цен на ресурсы пока не считается в западных странах большой проблемой.
Тем не менее, рынки волнуются, так как в ответ на ускорение инфляции центральные банки могут принять меры по ее обузданию, как это, например, сделал Центробанк России, поднявший ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., до 5,5%. Такие действия однозначно ассоциируются со снижением темпов экономического роста и соответственно сужением спроса на товары. Хотя сомнительно, что ФРС, Европейский Центробанк и прочие подобные структуры будут действовать «по учебнику». Как известно, когда джентльменам не нравится ход игры, они меняют ее правила.
Вообще-то, поднятие ключевой ставки в России, с одной стороны, выглядело неизбежным, а с другой поражает своей бессмысленностью. Экономика нашей страны в последние годы постоянно отличалась неравномерностью и контрастностью, а сейчас она просто находится в положении враскоряку.
Состоявшиеся на прошлой неделе в Москве выставки «Металлоконструкции» и «Металлургия. Литмаш» показали, что в российской экономике в настоящее время прекрасно уживаются и стремительный подъем, и глубокая депрессия. Некоторые участники этих выставок жаловались на то, что едва справляются с потоком заказов, хотя загрузили все имеющиеся мощности в три смены. Другие, наоборот, столкнулись с падением спроса и продаж.
Зону роста, в основном, формируют государство и крупные корпорации — государственные и частные. В последние месяцы значительно возросли инвестиции в инфраструктурные и социальные проекты. Строительство автомобильных и железных дорог, мостов, развязок, школ, медицинских учреждений резко активизировалось. Причем именно данные проекты могут рассчитывать на получение скидок при поставках стальной продукции.
Не отстает от инфраструктурного строительства «большая» промышленность. В начале июня запущена первая очередь Амурского газоперерабатывающего завода. Правительство утвердило план реализации энергетической стратегии на 15 лет, включающий десятки крупных проектов на триллионные суммы. Началось подписание специальных инвестиционных контрактов СПИК 2.0 в различных отраслях промышленности. Продолжают наращивать обороты «оборонка», судостроение, авиастроение, ряд других секторов.
Так что, можно сказать, Центробанк РФ не зря рапортует о более быстром, чем ожидалось, восстановлении экономической активности, что стало для него одним из обоснований повышения ключевой ставки. Мол, экономика перегревается, ее надо остудить, чтобы уменьшить инфляционное давление.
Наверное, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Наиболее благополучные сектора российской экономики потому и благополучные, что, как правило, работают в особом режиме, получая прямое государственное финансирование или льготные кредиты через ФРП и другие институты развития либо льготы по системе СПИК. На их активность колебания ключевой ставки влияют мало. Ее повышение, скорее всего, не приведет к снижению темпов роста.
Пожалуй, даже можно сказать, что эти отрасли сейчас функционируют в таком же режиме, что и западные экономики (либо Китай), — с доступными, дешевыми (для пользователей) и обильными финансовыми вливаниями. Не удивительно, что они демонстрируют исключительно высокий спрос на ресурсы и товары. Осталось только решить вопрос с пересмотром смет с учетом новых цен на прокат, но и он отнюдь не выглядит нерешаемым.
В общем, такова процветающая «Россия-1». Но кроме нее есть и «Россия-2» — малые, средние и недостаточно крупные компании, которые не задействованы в реализации приоритетных национальных проектов и не получают каких-либо льгот и поблажек. Вот для них экономическая ситуация продолжает ухудшаться, а повышение процентной ставки — еще одна гиря на ноги, если не прямо камень на шею.
Инфляция в России, безусловно, есть. И одним из ее источников, действительно, является повышенный спрос со стороны приоритетных отраслей. Однако основная причина роста цен — это увеличение стоимости ресурсов, вызванное исключительно внешними по отношению к нашей стране процессами.
Стальная продукция, пластики, пиломатериалы и многое другое дорожает в России, потому что взлетели вверх мировые цены. А поднялись они, в основном, благодаря тому, что правительства западных стран в последние месяцы тратят деньги, не считая, по принципу: «Бери, я себе еще нарисую». И вся трагедия заключается в том, что все экономические субъекты воспринимают эти деньги как настоящие, просто потому что им нет никакой разумной альтернативы! Бакс остается баксом несмотря на то, что где-то его рисуют миллиардами и тут же раздают, не считая. На него по-прежнему можно купить все, что угодно, а прочие валюты смиренно следуют его курсу. Подорожание евро или юаня по отношению к доллару за последние полгода укладывается в предел 3-5%.
Как показали события последних месяцев, российское правительство в условиях открытой отечественной экономики и относительно честной рыночной политики не может повлиять на цены на тот же прокат, поскольку они формируются за рубежом. Максимум, на послабления могут рассчитывать государственные проекты, которые и так находятся в зоне наибольшего благоприятствования.
Конечно, можно, отобрать у металлургов часть сверхприбылей, но это ничем не поможет рядовым непривилегированным потребителям. Им, увы, придется снова пережить 2015 г., но в еще более худших условиях. Металл и другие ресурсы растут в цене, процентные ставки тоже поднимаются, а рубль стабилен, поэтому с удорожанием готовой продукции возникают проблемы. Безусловно, российские производители и импортеры промышленного оборудования подняли цены в этом году, но, само собой, не так сильно, как возросли их затраты на стальную продукцию и прочее. А сейчас им еще и будут ужимать рынки сбыта посредством ужесточения денежной политики.
Сами металлургические компании между тем заявляют о возможном небольшом понижении цен осенью. Вообще, участники российского рынка стали находятся сейчас в довольно непростом положении. Продолжения роста в июле, вероятно, не будет. Некоторые поставщики уже пошли на уступки. Здесь очень легко нарваться на обвал, когда спроса нет, а покупатели выжидают, потому что цены падают, и через неделю нужную продукцию можно будет купить дешевле.
Впрочем, от резкого падения российский рынок могут удержать зарубежные тенденции. Там существенного спада как раз не ожидается. Хотя подъем в большинстве регионов выдыхается, котировки в обозримом будущем, скорее всего, останутся высокими.
В западных странах лидируют, безусловно, США, в которых по-прежнему доминируют оптимистичные ожидания, спрос очень высокий, а предложение ограничено. В 2019-2020 гг. американские металлургические компании вывели из эксплуатации около 10% мощностей по выпуску листового проката и не собираются запускать их обратно. Речь идет об устаревших производственных линиях, которые окажутся неконкурентоспособными после запуска ряда новых предприятий в 2021-2023 гг. U.S. Steel и Cleveland-Cliffs, которым принадлежат эти старые меткомбинаты, не видят смысла в том, чтобы тратить деньги на возвращение в строй активов, которые через пару лет все равно придется закрывать.
В конце этого года США могут отменить стальные тарифы для европейских производителей, выстраивая новое «Атлантическое единство». В этом случае произойдет некое выравнивание цен в США и ЕС, а вот дефицит так и останется дефицитом. Вряд ли американцы и европейцы станут допускать на свой «общий рынок» посторонних. В то же время, для турецких, российских, индийских, корейских производителей даже ограниченный доступ на рынки США и ЕС будет создавать основы для «экспортных паритетов».
В Китае, как бы власти ни пытались «уговорить» рынок, цены на стальную продукцию и металлургическое сырье снова идут вверх. Как говорится, экономику не обманешь. Если правительство ставит во главу угла снижение выбросов углекислого газа, то пусть не жалуется на то, что в стране неожиданно возник дефицит электроэнергии, который почему-то не могут покрыть новомодные ветряки и панельки, а высокий спрос на стальную продукцию при ограниченном предложении неизбежно подтягивает цены вверх. При этом в качестве «призрачной угрозы» над рынком нависает возможное введение экспортных пошлин.
Китай снова импортирует заготовку примерно по $700 за т CFR плюс-минус лапоть, и это дает новый ориентир для мирового рынка сортового проката. Еще одной реперной точкой является стоимость металлолома, который в ближайшем будущем, вероятно, не упадет ниже $500 за т CFR Турция. В июне произошло резкое подорожание дефицитного лома в США и Евросоюзе, где сырье тянется за стальной продукцией.
В общем, чем бы ни было вызвано рекордное увеличение спроса на прокат и сырье, оно имеет объективный характер. Экономические механизмы работают даже в перекошенном состоянии, а заданные условия определяют результат. Пока в мировой экономике не произошло резких изменений (например, в целях борьбы с инфляцией), цены на металл и другие ресурсы будут оставаться высокими.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Рост цен на стальную продукцию, продолжающийся с осени прошлого года, оказывает все более заметное и негативное влияние на экономику. И превышение смет при реализации государственных строительных и инфраструктурных проектов, о чем так беспокоятся в правительстве, — это только вершина айсберга, причем сравнительно небольшая.
Подорожавшая в 2-2,5 раза стальная продукция бьет по всему металлообрабатывающему сектору, особенно, по малому и среднему бизнесу, о поддержке которого так много говорилось на ПМЭФ. Очень большой урон понесло индивидуальное жилищное строительство, которое в прошлом году было одним из основных источников роста на российском рынке стали.
Снижение цен на металл, пиломатериалы и другие ресурсы действительно становится насущной потребностью для российской экономики. Однако в информационном пространстве ее, к сожалению, в значительной мере заслонила «хайповая» тема о сверхдоходах металлургов.
Действительно, подъем цен на стальную продукцию способствовал увеличению прибыльности российских (да и любых других) металлургических компаний. По итогам текущего года их акционеры наверняка смогут рассчитывать на рекордные дивиденды, а государство получит от них повышенные суммы налогов. Но современный рынок — штука волатильная и непостоянная. Сегодня производители стали на коне, а совсем недавно, в 2015-2016 гг., большая часть мировой металлургии была убыточной. Не исключено, что пройдет еще пара-тройка лет, и нынешний подъем снова сменится резким спадом.
Кроме того, не следует забывать о том, что подорожала не только стальная продукция, но и сырье, необходимое для ее получения. Если взять за точку отсчета начало 2019 г., когда российская и мировая экономика еще находилась в нормальном состоянии, получится, что металлолом в России подорожал по сравнению с тем периодом примерно в такой же степени, что и арматура, — немногим менее, чем в два раза. А железная руда сейчас стоит почти в три раза больше, чем два с половиной года тому назад, тогда как горячекатаный прокат на мировом и российском рынке прибавил только в два — два с половиной раза. Тут можно спорить о том, что первично, а что вторично (пожалуй, это именно стальная продукция потянула за собой вверх сырье, а не наоборот), но данный фактор тоже надо учитывать.
Конечно, рассуждать о том, как избавить российских металлургов от «несправедливо нажитых» средств, можно долго, интересно и увлекательно. Но потребителям от этого не жарко, не холодно. Если взять даже те самые 100 млрд. руб. сверхдоходов, о которых упоминал первый вице-премьер Андрей Белоусов, и потратить их все на компенсацию роста затрат потребителей металлопродукции, в среднем по России им достанется всего лишь примерно по 2,5 тыс. руб. за тонну использованного проката. Не копейки, само собой, но и не бог весть, сколько. Особенно учитывая, что в настоящее время стоимость листового проката и арматуры в России превышает уровень экспортного паритета, как минимум, на 10-15 тыс. руб. за т.
Вообще, сообщение между мировым и российским рынком словно проходит через некий ниппель. Если цена на прокат растет за рубежом, она тут же начинает подниматься и в России. А вот когда экспортные котировки российских компаний после такого подъема идут на спад, внутренний рынок вдруг теряет связь с мировым и, порой, восстанавливает ее не один месяц.
Правда, тут еще немаловажную роль играет точка отсчета. Как заявил один из металлургических «топов», нынешние цены на горячекатаный прокат в России на 30% ниже, чем в Западной Европе и на 40% ниже, чем в США. Однако это же западопоклонство! Почему бы не сравнить российские котировки, например, с уровнем ведущих азиатских стран, Индии и Китая? Тогда окажется, что наши цены выше на 25-35%!
Говорят, что для любой проблемы можно найти быстрое, эффектное и… неправильное решение. В данном случае, им будет административный, таможенный или налоговый нажим на металлургов. Мы же все-таки не джентльмены, что меняют правила игры на ходу, если начинают по ним проигрывать! Как говорил глава еще одной металлургической корпорации, не надо ломать то, что работает.
Российская экономика открытая и тесно связана с мировой. Что же, за это надо платить. И если более сильные игроки, которыми являются США и другие страны Запада, мухлюют, заливая свои экономики необеспеченными деньгами и экспортируя к нам свою инфляцию, надо либо перебивать их игру своей или, ежели мощи на это не хватает, терпеть и не писать жалобы в ООН и «Спортлото».
Чтобы быстро опустить цены на металлопрокат и другие ресурсы в России, надо иметь возможность использовать либо советские, либо южнокорейские методы конца 60-х — начала 70-х гг., либо родственные им современные китайские. В любом случае это означает фактическое превращение страны в корпорацию, в которой крупный частный бизнес или не существует как класс, или находится под жестким диктатом государства и обязан выполнять его требования, в том числе, и неформальные.
Ранее российскому правительству удалось решить задачу понижения внутренних цен по сравнению с экспортными на нескольких направлениях. В случае с природным газом это происходит через государственную монополию. Для нефти и нефтепродуктов разработана система налоговых и таможенных демпферов, обратных акцизов и т. д. Нечто похожее создавалось в последние месяцы и для некоторых продовольственных товаров. Но в правительстве несколько раз повторяли, что не видят возможности создания аналогичного механизма на рынке стальной продукции.
Как отмечал еще один «маршал российского бизнеса», комментируя ситуацию на рынке жилья, чтобы снизить цены на недвижимость, надо больше строить. Совершенно верное замечание! Но в наших конкретных условиях оно означает необходимость создания крупного государственного игрока, который будет строить много и дешево (например, арендное и социальное жилье) и за счет своего предложения устанавливать на рынке ценовые потолки, ограничивая аппетиты частных девелоперов.
В российском металлургическом секторе, правда, именно такой механизм не сработает. Не будешь же строить пару новых металлургических заводов, чтобы они целевым образом снабжали только отечественных потребителей! Но еще в начале текущего года в качестве возможных долгосрочных мер предлагалось создание элементов ценового контроля за счет приобретения проката в госрезерв во время спадов и товарных интервенций в периоды резких подъемов.
Эту идею, как минимум, можно развить до состояния некой снабженческой госкомпании, приобретающей металл по оптовым ценам на предприятиях и поставляющей его независимым металлотрейдерам и конечным потребителям по сглаженным формульным ценам, но здесь очень многое будет зависеть от качества управления данной структурой. Впрочем, от него всегда все зависит…
Так или иначе, российским потребителям стальной продукции, скорее всего, придется ждать, пока мировой рынок не исправит сам свои диспропорции. Вариантов здесь несколько. Во-первых, сбить цены могут китайцы, покупая товарную заготовку не дороже $650-670 за т CFR и продавая горячекатаный прокат на экспорт по $900-950 за т FOB. Но тут многое зависит от политики китайского правительства, которое само блуждает в трех соснах, пытаясь совместить климатическую политику с реальными потребностями экономики, а внутренний рынок с экспортом. Если китайцы таки введут с 1 июля экспортные пошлины на сортовой и листовой прокат, понижающее влияние с их стороны сойдет на нет.
Во-вторых, через пик подъема могут перевалить западные страны. В Европе, например, листовой прокат уже больше недели сохраняет стабильность. Но дефицит стальной продукции на региональном рынке, по оценкам местных специалистов, продлится, как минимум, до конца текущего года. Аналогичная ситуация в США, где повышение цен, между прочим, все еще продолжается.
В-третьих, США и ЕС могут принять меры по борьбе с инфляцией, которые пропагандируют наш министр финансов и глава Центробанка РФ. Это значит, поднять процентные ставки, сократить бюджетные расходы, охладить перегретые рынки. У нас подобную политику уже проводили в 2015-2016 гг. в очень похожих обстоятельствах. Разве что, причиной роста инфляции тогда был не прямой ее импорт из западных стран, а падение курса рубля. Для экономики такие меры оказались весьма неприятными.
Поэтому не слишком вероятно, что США и Евросоюз воспользуются теми рецептами, которыми они пичкают других. Скорее, они продолжат денежную накачку и не будут торопиться с объявлением о завершении эпидемии коронавируса. Впрочем, надо будет посмотреть, станут ли США продлевать свои программы поддержки населения и бизнеса, срок действия которых завершается в сентябре.
Таким образом, можно предположить, что прекращение роста цен на стальную продукцию в России в июне-июле вполне реально, а вот существенное понижение котировок до уровня прошлого года (или хотя бы марта, как для госпроектов) — нет. Для этого должны смениться долгосрочные тенденции, чего мы пока не наблюдаем.
И, в завершении несколько слов о климатической политике. Информационное агентство Reuters обнародовало проект европейской схемы углеродных тарифов, ввод которой в действие может начаться с 2023 г. Грубо говоря, европейских импортеров стали, алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии (повторяю: импортеров!) обяжут оплатить по европейским ценам разрешения на выбросы всего углекислого газа, что возникли в течение всего процесса производства закупаемой за рубежом продукции.
В частности, при нынешних ценах это означает, например, введение дополнительной пошлины на российский горячекатаный прокат в размере 95-100 евро за т за одну только выплавку стали плюс плата за углекислый газ, выделенный в процессе прокатки, плюс плата за непрямые выбросы при генерации электроэнергии и, может быть, добыче железной руды и коксующегося угля. Причем всю систему предлагается сделать максимально громоздкой и неудобной для импортеров, которым угрожают драконовскими штрафами за попытки приуменьшения выплат.
При таком механизме российским металлургам, действительно, придется уйти с европейского рынка или тратить еще большие деньги на внедрение у себя безуглеродных технологий, да еще и сертифицированных западными органами, которые станут для них чистыми издержками, — ни уму, ни сердцу. Президент в своем выступлении на ПМЭФ, впрочем, предложил альтернативный вариант. Если уж Россия не в состоянии противостоять в одиночку охватившему весь мир климатическому безумию, можно попытаться направить движение в другом направлении — не добиваться параноидальной ликвидации выбросов углекислого газа, а сделать упор на него поглощение.
Как заявил президент, Россия обладает колоссальными поглощающими возможностями за счет лесов, болот, сельхозугодий, и поэтому может занять ведущее место на глобальном рынке так называемых «углеродных единиц». Поэтому и металлурги могут повышать свою международную конкурентоспособность, вкладывая средства в защиту лесного хозяйства или облагораживание земель. Конечно, здесь принципиальное значение имеют проработка общепризнанных критериев климатических проектов, создание прозрачной системы оценки поглотительной способности участков и постоянного контроля эмиссии и поглощения углекислого газа.
Очень сомнительно, что такую схему поддержат в западных странах, хотя отвергнуть ее с помощью рациональных доводов весьма сложно. Так что, будет весело!
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Повышение цен на стальную продукцию в России снова становится проблемой государственного уровня. На прошлой неделе этот вопрос поднимался в Государственной Думе, а заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов посвятил этой теме свое выступление на площадке 18-го Международного металлургического саммита.
Правда, в ближайшие недели ситуация может повернуться таким образом, что прекратится рост цен на стальную продукцию на мировом рынке, который уже больше полугода служит основным оправданием для российских металлургических компаний. Однако возвращение котировок на прошлогодний уровень пока так или иначе не значится на повестке дня.
Основным источником данного понижения стал Китай. Скачок внутренних цен на $120-140 за т в первую неделю после майских праздников заставил правительство КНР, ранее относившееся к растущей дороговизне стальной продукции без особой аффектации, принять срочные меры.
В частности, были оперативно пресечены биржевые спекуляции, с руководством металлургических компаний проведена разъяснительная работа, с заявлением о необходимости обеспечить нормальный ценовой уровень выступил премьер-министр, а на уровне Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) было анонсирован запуск системы ценового мониторинга и контроля для важнейших видов сырьевых и продовольственных ресурсов. Наконец, появились сведения о введении экспортных пошлин на стальную продукцию низкого передела (горячекатаный прокат, вероятно, арматура и катанка).
Хотя ни одна из этих мер пока не введена в действие, этого хватило, чтобы обвалить цены на прокат на китайском рынке. Так, биржевые котировки на горячекатаную продукцию за две недели упали на $240 за т по сравнению с пиком до уровня середины марта. Арматура за это же время подешевела примерно на $200 за т. Причем этот спад наблюдался не только на биржевых торгах, но и на споте.
Конечно, не все тут однозначно, так как прошедшая неделя завершилась достаточно мощным повышением. Но, очевидно, до середины июня китайский рынок стали должен определиться с ценовым интервалом. Причем, он будет значительно ниже, чем в начале мая, когда стоимость горячекатаного проката превышала $1000 за т с НДС. Как ни смешно (нам, с нашими ценами), для Китая это были рекордно высокий уровень, шоковое подорожание.
Китайская металлургическая ассоциация CISA также объявила ряд инициатив по наведению порядка на национальном рынке стали. В частности, в соответствии с ними производители стальной продукции должны преимущественно обеспечивать потребности внутреннего рынка, приводить объемы производства в соответствие с рыночной ситуацией, чтобы не допускать дефицита или избытка предложения, отправлять на экспорт преимущественно продукцию с высокой добавленной стоимостью. Ассоциация, со своей стороны, готова взять на себя координирующие функции, мониторинг, ограничение разрушительной ценовой конкуренции.
Понятно, что в российских условиях данные действия не слишком применимы. У правительства России или ассоциации «Русская сталь» нет такой степени контроля над металлургической отрасли, как нет и мер воздействия на поголовно частные компании, а ограничение конкуренции проходит по ведомству ФАС. Поэтому в Думе только, извините за тавтологию, думают, что делать с высокими ценами, а рекомендации Минпромторга основаны на рыночном регулировании.
В частности, в качестве кратковременных чрезвычайных мер предлагаются введение экспортных пошлин на стальную продукцию, отмена возврата экспортного НДС, введение повышающего коэффициента на экспортные железнодорожные перевозки металлопродукции, увеличение ставки налога на прибыль и НДПИ для металлургических и железорудных компаний. Да, еще готовится рост экспортной пошлины на металлолом до 70 евро за т, предположительно с 1 июля.
Что можно сказать по этому поводу? Повышение ставки НДПИ — это вообще не в тему. В России нет дефицита железорудного сырья, а большинство отечественных металлургических компаний являются вертикально интегрированными. Это даст только увеличение себестоимости выплавки чугуна и стали, и не более того.
Повышение налога на прибыль либо введение так называемого налога на сверхдоход — это чуть ближе, но все равно не то. Задача заключается не в том, чтобы забрать у металлургических компаний «лишние» деньги, появившиеся исключительно вследствие благоприятной внешней конъюнктуры, а чтобы снизить внутренние цены на прокат. Подобная мера имела бы смысл, если направлять повышенные суммы налогов на компенсацию затрат на металлопродукцию для российских потребителей, однако масштабы поступлений и расходов здесь не сопоставимы. Это даже не размазывание манной каши по тарелке тонким слоем, это кормление маковым рулетом по одному зернышку за раз!
Увеличение стоимости экспортных перевозок по железной дороге до российских портов тоже будет работать больше на рост затрат металлургов и снижение их прибыльности. Да и не такая это большая статья расходов, если разобраться. Впрочем, в сочетании с другими мерами может использоваться.
Отмена возврата экспортного НДС или введение экспортных пошлин на прокат, безусловно, имеют смысл, но лишь при одном непременном условии. Если металлурги в ответ снизят доходность внутренних продаж до уровня экспортных, а не увеличат внутренние цены, чтобы компенсировать себе сокращение прибылей от зарубежных операций. Не следует забывать, что исторически стоимость стальной продукции в России обычно немного превышала экспортный уровень. Российский рынок листового проката олигополистический, крупных игроков на нем всего 4-5, если считать украинский «Метинвест» и «АрселорМиттал Темиртау». Поэтому с такими вещами надо играться осторожно.
Да, введение экспортных пошлин теоретически может привести к сокращению поставок за рубеж. Тогда внутренние цены снизятся только за счет расширения объемов предложения и усиления конкуренции между поставщиками. Кстати, на рынке арматуры такой эффект ранее время от времени наблюдался. Но это работает, только тогда, когда маржинальность бизнеса сравнительно невелика, и введение экспортной пошлины может сыграть важную регулирующую роль. Сейчас же металлурги, поставляющие горячекатаный прокат в Турцию или Евросоюз, имеют сверхприбыли.
Возможно, нужный эффект дало бы введение максимальных цен отсечения, плавающих пошлин и демпфирующего механизма, который в принципе работает в России на рынке нефти и внедряется в сфере торговли сельскохозяйственным сырьем. Но рынок стальной продукции более сложный и разнообразный. Для него разработать такое регулирование, да еще сделать так, чтобы оно нормально работало и не сильно мешало, весьма непросто.
Поэтому есть вероятность, что все так и ограничится очередным повышением экспортной пошлины на металлолом. Хотя особого смысла в этом нет. Прежняя в 45 евро за т вполне работала. Внешние поставки лома из России в феврале-марте сократились в разы по сравнению с уровнем 2019 г. Они начали снова увеличиваться только во время скачка мировых цен на данное сырье в мае, который, скорее всего, окажется кратковременным. А подорожание лома в России в последние недели вызвано конкуренцией отечественных металлургических заводов друг с другом, а не с экспортерами. Лучше бы позаботились о внедрении мер, стимулирующих сбор и переработку вторсырья!
Впрочем, острота проблем, одолевающих российский рынок стали, может уменьшиться в ближайшее время по естественным причинам. Цены на металлопродукцию за рубежом, на которые равняются российские производители, могут пойти вниз благодаря китайскому вмешательству.
Прежде всего, начала дешеветь заготовка. Китайские компании больше не готовы покупать ее за рубежом по $800 за т,. Для них, пожалуй, и $700 за т CFR сейчас дороговато. При этом в стране начинается дождливый сезон, когда активность в строительной отрасли падает, а государство резко уменьшило бюджетные расходы на инфраструктурные проекты. По данным Министерства финансов КНР, за первые четыре месяца 2021 г. объем эмиссии так называемых инфраструктурных облигаций, через которых идет финансирование строек в регионах, составил 232 млрд. юаней ($36,4 млрд.), тогда как в прошлом году за тот же период перевалил за триллион юаней. Во втором полугодии в Китае могут сократить и инвестиции в жилищное строительство. Это приведет сужению спроса и снижению цен на арматуру и полуфабрикаты.
Правда, турецкие компании на прошлой неделе продавали арматуру на экспорт более чем по $750 за т FOB и были готовы покупать металлолом по $500 за т CFR. Однако, скорее всего, в июне эти цены будут падать. Прежде всего, из-за относительной слабости турецкого внутреннего рынка. Поэтому и российская заготовка вполне может опуститься до менее $650 за т FOB. А значит, и арматуре пора снижаться хотя бы до 60 тыс. руб. за т с НДС несмотря на «высокий сезон» в стройке.
К концу мая китайские компании начали предлагать на экспорт горячекатаный прокат немногим дороже $900 за т FOB. Понятно, что если правительство КНР обложит его экспортной пошлиной, цена сразу подскочит. Но пока что дешевая китайская продукция, как в январе и начале февраля, поддавливает мировой рынок. Так, корпорация ArcelorMittal ждала до пятницы, чтобы объявить очередное еженедельное повышение цен на листовой прокат в Европе, и ограничилась ростом только на 20 евро. А это уже серьезный сигнал о том, что рынок, может быть, подходит к пику!
Нет, говорить о том, что рост даже в западных странах заканчивается, пока рано. Подождем хотя бы еще недельку, посмотрим, что будут делать китайцы, и что станет происходить в первых числах июня в Евросоюзе и США. Но звоночки уже, как говорится, позвякивают. Подъем последних месяцев не в последнюю очередь обуславливался крайним потребительским оптимизмом в западных странах. Считалось, что спрос на любой товар будет гарантирован, поэтому важно было, в первую очередь, иметь металл для обеспечения дальнейшего производства, а цена была второстепенной.
Однако в американских экспертных кругах уже идут разговоры о возможном повышении процентных ставок с целью недопущения перегрева экономики, а ряд американских штатов отменили повышенные пособия по безработице, чтобы вернуть людей на рабочие места… за меньшую плату.
По данным американского веб-сайта ZeroHedge, который ссылается на регулярные многолетние опросы Conference Board, значения индексов, отражающих намерения американцев в ближайшие шесть месяцев приобрести автомобиль, недвижимость и бытовую технику, в мае текущего года упали до многолетних минимумов. А спад по сравнению с предыдущим месяцем оказался по всем трем позициям самым резким, по меньшей мере, с начала XXI века. Конечно, ZeroHedge — это, так сказать, диссидентский ресурс, но все же, но все же…
Понятно, что избыточный, «опережающий» спрос в конце 2020 — начале 2021 г. рано или поздно должен обернуться снижением видимого потребления. Тут важно и то, что все американские программы антиковидных компенсаций и пособий действуют только до сентября текущего года. И если их действие не будет продлено, национальный потребительский рынок может просто схлопнуться из-за резкого ухудшения настроений и ожиданий.
Посему вокруг все снова становится зыбким и неуверенным. Надо наблюдать, прощупывать перед собой дорогу и быстро реагировать на новые перемены. А они будут, будут! Может, не завтра, не послезавтра, но что-то должно измениться!
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Очередная неделя на мировом рынке стали закончилась обычно – повышением цен. Корпорация ArcelorMittal в очередной раз повысила котировки на горячекатаный прокат – теперь уже до 1150 евро за т EXW. Металлолом в Турции достиг более $500 за т CFR.
Не отстают от зарубежных коллег и российские производители листового проката. На экспорте им покорился рубеж $1100 за т, а на внутреннем рынке предложения на июнь поступают уже более чем по 105 тыс. руб. за т. Для оцинковки, впрочем, уже и 150 тыс. руб. за т – не предел.
Тем не менее, возникает впечатление, что рынок уже устал от непрерывного подорожания и от цен, бьющих один рекорд за другим. На состоявшейся 20-21 мая конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» отмечалось, что спрос падает. Некоторые потребители, не поспевающие за стремительным подъемом, приостановили закупки в надежде на то, что этот безумный рост когда-нибудь кончится, а имеющиеся запасы позволят переждать месяцок-другой.
Такие настроения заметны и в западных странах. Многие эксперты предсказывают прекращение подъема и переход к стабилизации в середине текущего года. Биржевые фьючерсы дают начало снижения ближе к осени. В пользу того, что мировой рынок стали подходит к пику, говорят и события в Китае, где котировки на прокат на Шанхайской фьючерсной бирже за последнюю неделю опустились на уровень конца апреля, перечеркнув все подорожание в первой декаде мая.
Так что, не исключено, что нынешний скачок цен на прокат – это так называемый «прыжок дохлой кошки». Так биржевики называют повышение на самом исходе цикла, за которым следует окончательное падение. Впрочем, так же вполне вероятно, что наша кошка до сих пор живее всех живых. Ведь раньше уже сколько раз казалось, что цены на листовой прокат уже дошли до предела, за которым рост уже просто невозможен! Тем не менее, металлургические компании успешно брали новые высоты, а покупатели смирялись с подорожанием, так как альтернативой было остаться без металла совсем.
Попробуем все-таки прикинуть текущую ситуацию на рынке и в мировой экономике в целом. Есть ли основания ожидать прекращения роста? А может, мы даже можем надеяться на понижательную коррекцию?! Не сегодня, понятное дело и не завтра, но, скажем, в июне или июле-августе?
Прежде всего, снижение внутренних цен идет в Китае. Правда, здесь можно сказать, что рынок просто возвращается в свое нормальное состояние после попытки спекулятивной раскрутки после майских праздников. Причем каких-либо особенно веских причин для спада более чем на $100 за т за неделю с небольшим нет. Тут, по сути, партия сказала: «Надо!», а бизнес ответил: «Есть!». Поэтому некоторые западные эксперты сомневаются в устойчивости этой тенденции. По их мнению, для этого необходимо принимать меры по ограничению потребления проката в Китае, чего в данный момент не наблюдается.
Удешевление китайской стальной продукции, тем не менее, привело к существенному снижению котировок на товарную заготовку. В конце недели они опустились до около $730 за т CFR Китай, и это, скорее всего, не предел отступления. Впрочем, китайская арматура предлагается на экспорт более чем по $900 за т FOB, что дает турецким компаниям формальный повод удерживать свои котировки на отметке $780 за т FOB и позволяет им приобретать металлолом дороже $500 за т CFR.
Этот же фактор способствует сохранению относительно высоких цен на товарную заготовку производства СНГ и обуславливает дороговизну арматуры в России. Пока у металлургов нет веских причин отказываться от котировок на уровне 70 тыс. руб. за т CPT.
Правда, в более долгосрочной перспективе на мировом рынки заготовки и сортового проката может сыграть иранский фактор. Если американцы таки снимут санкции с Ирана и разрешат свободные экспортные поставки металлопродукции, цены на прокат упадут, как от одного только намека на достижение соглашения начала дешеветь нефть.
Иными словами, понижение мировых цен на заготовку и сортовой прокат уже в начале лета – весьма вероятное событие. В таком случае есть надежда и на то, что арматура в России все же опустится ниже отметки 70 тыс. руб. за т.
Сложнее с листовым прокатом. Появились слухи о том, что китайское правительство может ввести экспортные пошлины на данную продукцию в целях ее удешевления на внутреннем рынке. Может, это только угроза, которая стала одной из причин понижения котировок на стальную продукцию в Китае, но такая мера только поспособствовала бы их повышению в Азии.
Впрочем, азиатский рынок достаточно устойчивый, и листовой прокат дорожает там значительно медленнее, чем в других регионах. Китайские поставки там могут быть заменены, скажем, индийскими. Как раз в Индии из-за коронавируса сократился внутренний спрос, а местные компании исчерпали квоты на поставку горячекатаного проката в Европу.
Кстати, на прошлой неделе Великобритания приняла решение продлить еще на три года часть квот, которые она «унаследовала» от Евросоюза. Не исключено, что по такому же пути пойдет и Европейская комиссия. Однако импорт горячекатаного проката в любом случае будет ограничиваться. Также можно с достаточной вероятностью предположить, что российская группа «Северсталь» сохранит свои позиции на европейском рынке и будет поставлять туда горячекатаный прокат по $1300 за т FOB плюс.
Вообще, нынешний кризис показал удивительную неэластичность западного рынка листового проката, причем, если можно так сказать, в обе стороны. Во-первых, взлет цен не привел к расширению объемов предложения, а во-вторых, не вызвал падения спроса.
Первое можно объяснить тем, что мощности западных производителей листового проката и так загружены – в той степени, насколько это можно в нынешних обстоятельствах. Чтобы покрыть хронический дефицит, который как впервые возник прошлой осенью, так все никак не может прекратиться, нужно вводить в строй простаивающие в настоящее время доменные печи, а это металлургам совсем не нужно.
Прежде всего, американские и европейские производители отдают себе отчет в том, что нынешний ажиотаж имеет краткосрочный характер. Программы антиковидного стимулирования экономики, покрытие бюджетных дефицитов за счет печатного станка, схлопывание сферы услуг в прошлом году, что высвободило немалую часть средств потребителей для совершения покупок товаров, – все это преходяще. А в долгосрочной перспективе реальный спрос на стальную продукцию в западных странах будет и дальше сокращаться.
Вообще, для западных стран повышение цен на сырьевые ресурсы не критично. В их экономиках доля промышленности в ВВП сравнительно мала. А доля сырья в конечной стоимости товаров измеряется, в лучшем случае, единицами процентов. Поэтому даже трехкратное увеличение стоимости листового проката не должно привести к заметному подорожанию автомобилей, холодильников или промышленного оборудования.
Российская экономика в большей степени опирается на реальный сектор, включая строительство. Причем в нашей стране рентабельность нормального, не привилегированного бизнеса, как правило, низкая. Поэтому для отечественных компаний рост цен на прокат очень чувствительный и уже начал приводить к подорожанию готовой продукции (например, товаров для промышленности), а сам этот вопрос находится на контроле у правительства.
В то же время, инфляция и у нас считается по потребительской корзине. Именно поэтому ее официальный уровень составляет 5%, а власти, не принимая радикальных мер по отношению к производителям металла, давят вниз цены на продовольствие. Кстати, официально низкая инфляция в нынешних условиях – это тоже большой плюс. Благодаря этому нет существенного роста ни тарифов, ни процентных ставок.
Кроме того, сейчас для крупных западных корпораций не критичен даже вопрос прибыльности. Кредиты для них очень дешевы, курсы акций на биржах растут – что еще надо?! В тренде вообще сейчас триада ESG – экология, социальная активность, «устойчивое» управление. Сколько там что чего стоит – вопрос сугубо второстепенный.
В Европе важную роль играет еще один фактор – параноидальная борьба с выбросами углекислого газа. В принципе, европейские меткомбинаты пока получают бесплатные разрешения на выбросы, но на некие постоянные объемы, остальное надо докупать. При использовании доменно-конвертерного процесса при выплавке тонны стали образуется 1,85 тонны углекислого газа. По нынешним ценам – это порядка 100 евро. Да любая металлургическая компания при таких условиях три раза подумает, прежде чем запускать еще одну доменную печь! И в конце концов решит: «Нет!».
Поэтому есть ненулевая вероятность, что повышение цен на листовой прокат в Европе и США будет продолжаться и дальше – в июне, июле, августе… Для остановки этого роста потребуется – не много, не мало – смена текущей экономической модели. Сейчас она базируется на щедрой раздаче денег и создании искусственного платежеспособного спроса. Основной риск здесь заключается в том, что эти избыточные средства все-таки разгоняют инфляцию. Пока ее не слишком замечают, но может, это придется сделать в будущем. По крайней мере, некоторые признаки растущей обеспокоенности монетарных властей в США уже есть.
Проблема здесь заключается в том, что бороться с инфляцией, скорее всего, будут теми же методами, которые применяло прежнее российское правительство в 2015-2017 гг. В конце концов, наши и западные стратеги учились по одним и тем же учебникам. Это будет повышение ставок, скорее всего, уменьшение объемов стимулирующих пакетов и прочие меры, объективно сужающие спрос. И вот тогда вся мировая экономика ухнет в депрессию, а цены на товары пойдут круто вниз.
Впрочем, в западных правительствах это, очевидно, тоже хорошо понимают, поэтому снимать свои экономики с денежной иглы пока вроде бы не собираются. Но, возможно, только пока.
Таким образом, рынок листового проката пока существует в рамках прежней тенденции. Повышение на нем продолжается. Но на нем нарастает вероятность спада, который произойдет когда-то и где-то в будущем. Кошка Шредингера пока сидит себе спокойно в ящике. Но рано или поздно придется открыть крышку, чтобы посмотреть, что там происходит внутри.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Прошедшая неделя выдалась непростой и неоднозначной. На мировом рынке стали она началась со взрывного роста цен на сортовой прокат, металлолом и железную руду, основным источником которого стал Китай. Однако в конце недели резко подскочившие котировки пошли там на снижение.
В российской экономике главным событием недели стало выступление премьер-министра в Государственной Думе. Оно было очень обширным, там много было сказано о борьбе с коронавирусом, о социальных аспектах, о промышленном развитии и широкомасштабных инвестиционных планах правительства, но немало внимания в нем было уделено и ценовой проблеме. Пусть применительно, в основном, к продовольствию и бензину, но поднятые вопросы имеют прямое отношение и к стальной продукции.
Отметим, что рост цен на стальной прокат, другие металлы и ресурсы становится все более острой проблемой для мировой экономики. Некоторые эксперты, представляющие, в частности, такие структуры как Банк Англии и ФРС США, заявляют, что причин для серьезного беспокойства пока нет. Мол, инфляционные процессы имеют временный характер и не продлятся долго, а западные страны по мере одоления коронавируса перейдут в фазу бурного экономического роста.
Тем не менее, инфляция в Китае в апреле достигла наивысшего показателя за последние три с половиной года, а в США — максимальной отметки за 12 лет. Увеличение стоимости сырья проходит все дальше по производственной цепочке и начинает двигать вверх цены на конечные изделия. А на рынке недвижимости этот процесс наблюдается еще с прошлого года.
Специалисты опасаются, что повышение инфляции заставит власти западных стран поднять базовые процентные ставки, что смертельно опасно для закредитованных до предела и убыточных корпораций, которых в западных странах (особенно, в США) очень много. Однако и продолжение денежной накачки экономик при нулевой процентной ставке не ведет ни к чему хорошему. Ускорение инфляции будет сужать спрос, что так же приведет к кризису, только по другому сценарию.
Пока что финансовая политика западных стран остается прежней, а значит, котировки на листовой прокат продолжают расти. ArcelorMittal подняла базовые цены на горячекатаный прокат в Европе уже до 1100 евро за т EXW, а в США данная продукция может продаваться дороже $1700 за т EXW при сроке доставки от 16 недель. В России установлены новые ориентиры на июнь — 104 тыс. руб. за т CPT для горячекатаного проката, 120 тыс. руб. за т для холоднокатаного и 150 тыс. руб. за т для оцинкованной стали.
Как отмечал в своем выступлении наш премьер, «низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире». И выравнивание внутренних цен по экспортному паритету вызывает заметное неудовольствие российского правительства. Равно как и выведение сверхприбылей за рубеж, в чем, в частности, были замечены и отечественные металлурги.
Возможно, новое повышение цен на прокат до совершенно неудобоваримых уже значений подтолкнет власти к более решительным шагам по отношению к производителям стали, чем январское повышение экспортной пошлины на металлолом. Правда, остается вопрос о степени эффективности таких мер.
Правительство КНР в конце апреля, вроде бы, и правильно все делало, отменяя возврат НДС при экспорте большинства категорий стальной продукции. Однако это заявление стало причиной рекордного скачка цен на нее. К 12 мая котировки на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже подскочили на $100 за т по сравнению с 30 апреля, а на горячекатаный прокат — более чем на $130 за т. Экспортные цены на арматуру и катанку китайского производства превысили $1000 за т FOB, за считанные дни увеличившись на $150 за т, а предложения на поставку товарной заготовки в Китай достигли более $800 за т CFR по сравнению с $670-690 за т в конце апреля. Стоимость железной руды, поставляемой в Китай из Австралии, рывком вышла на отметку $237 за т CFR, более чем на 20% превысив прежний абсолютный рекорд 2011 г.
Правда, в конце недели котировки на китайских биржах пошли вниз, убрав около половины майского прироста. Однако это в значительной степени произошло благодаря изменению правил биржевых торгов, что позволило погасить спекулятивный ажиотаж. Правительство КНР заявило, что примет меры против подорожания, но без конкретики. Это также помогло утихомирить страсти, но не решает главную проблему: как прекратить подъем цен в отдельно взятой стране в условиях ускорения инфляции на мировом рынке?
Небольшое исследование китайской консалтинговой компании Mysteel показало, что реальных инструментов у правительства КНР почти что и нет. Экспорт оно уже попыталось уменьшить — результат с точки зрения ценовой ситуации негативный. Расширение производства стали с целью создания избытка предложения ведет к еще более сильному подорожанию сырья и противоречит базовой политике, направленной на сокращение эмиссии углекислого газа, что, наоборот, требует снижения выплавки. Впрочем, китайские меткомбинаты и так увеличивают средний уровень загрузки с начала апреля.
Дешевая распродажа из госрезерва панацеей тоже не является. В этом году власти уже объявили, что рассматривают вопрос о выбросе на рынок 500 тыс. т алюминия из стратегических запасов. Котировки на этот металл немного дрогнули, а затем снова пошли вверх, достигнув 10-летнего максимума. Увы, но 500 тыс. т — это всего лишь около 1,5% от годового оборота китайского рынка алюминия. А в отношении стального проката ничего нельзя противопоставить известному принципу: чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить это самое ненужное. И вообще, хранить на складах госрезерва арматуру или листовой прокат, подверженные ржавлению, — это, возможно, не самая лучшая идея.
В Китае даже обсуждается возможность сужения внутреннего спроса, например, за счет остановки ряда инфраструктурных проектов и отмены других. Но это означает — своими силами гробить национальный экономический рост. К тому же, повышение цен определяется, главным образом, внешними факторами. Даже Китай не может повлиять на Штаты или ЕС, чтобы те прекратили финансово поддерживать бизнес и население либо подняли процентные ставки.
Во Вьетнаме, где проблема роста цен на металл тоже вышла на уровень правительства, признают, что особых рычагов влияния на ситуацию не имеют. Там сейчас предлагается принять меры по сокращению внешних продаж стальной продукции, например, посредством введения экспортных пошлин. То же самое заявляют и индийские специалисты, указывая, что их ставка должна составлять порядка 20-25%.
Впрочем, пока что ни одна страна в мире не прибегла к такому приему, поэтому рассуждать об эффективности подобных мер можно только умозрительно. У нас повышение экспортной пошлины на металлолом на 30 евро за т особого результата не дало. Да, лом сейчас стоит в России дешевле, чем на внешних рынках, но его удешевление, начавшееся только в апреле (через два месяца после введения в силу новых правил), к настоящему времени приостановилось. Может, с прокатом просто надо действовать решительнее. С другой стороны, на экспорт уходит более трети стали, выплавляемой в России, поэтому полностью его закрыть тоже нельзя.
Правда, следует отметить, что события последних месяцев словно подталкивают России к тому, чтобы вообще до минимума сократить экономические связи с западными странами. Так, премьер-министр упоминал в своем выступлении о таком вопросе как борьба с изменением климата и ее последствия.
Прежде всего, следует отметить, что таковая борьба, скорее всего, является полным фейком. Просто по логике: абсолютно вся нынешняя пропаганда западных стран лжива, лицемерна и двулична. Поэтому было бы крайне маловероятно, если бы в этих завалах фальсификаций нашлось одно-единственное истинное направление, продиктованное реальной заботой о нуждах всего человечества. Как говорится, почему вдруг борьба с климатическими изменениями должна принципиально отличаться от всяких BLM, борьбы за права сексуальных меньшинств, «европейского выбора» и прочих фантомов?!
Здесь можно проследить несколько целей. Так, безуглеродный переход маскирует резкое снижение уровня потребления и жизни населения в целом из-за удорожания и меньшей доступности энергии, заслоняет в массовом сознании реальные общественные проблемы, обеспечивает перекачку триллионных сумм в нужные карманы за счет государственного субсидирования, льгот и повышенных цен, блокирует экономический рост в развивающихся странах, отрезая их от дешевой и доступной энергии. Кроме того, использование исключительно солнечной и ветряной энергии позволяет избавится от зависимости от импорта традиционных энергоносителей — угля, нефти и газа.
Для России это означает искусственное урезание спроса на ее главные экспортные товары — нефть и газ, обложение российской продукции углеродными тарифами, навязывание ей климатической повестки, что приводит только к излишним затратам без создания какой-либо ценности для потребителей.
Правительство РФ сейчас пытается встроиться в эту систему на своих условиях. Правительство внесло в Государственную Думу законопроект «Об ограничении выбросов парниковых газов», заявляется о необходимости создания собственной системы учета их выбросов и поглощения, о перспективах новой отрасли по производству водорода и др. Однако представляется, что в долгосрочной перспективе это бесполезно. Если даже Китай вопреки интересам собственной промышленности начал бороться с выбросами углекислого газа, никто не позволит нам остаться в стороне. В эти игры можно только не играть, категорически, бесповоротно и принимая на себя все последствия.
Экономическая автаркия — это, безусловно, плохо, КНДР не даст соврать. Слишком большая часть российской экономики работает на экспорт, в слишком большом количестве важных областей мы критично зависим от импорта. Но и продолжать связывать себя цепью со все больше идущей в разнос западной финансовой системой — тоже не лучший выход. И с течением времени он становится все более худшим. Между прочим, это начинают понимать и в других странах. Так что, может, нас и так ждет развал глобальной экономики на зоны?! А если процесс нельзя остановить, может, есть смысл его возглавить?!
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Пока мы отдыхали, обстановка на мировом рынке стали продолжала развиваться в прежнем направлении. Цены на стальную продукцию снова выросли, причем если ранее, так сказать, солировал листовой прокат, то теперь к нему присоединился и сортовой.
Решение китайских властей об отмене возврата НДС при экспорте не одного только горячекатаного проката, но и большинства других категорий стальной продукции, очевидно, было продиктовано стремлением сократить внешние поставки и приостановить рост цен на национальном рынке. Однако результат оказался обратным ожидаемому.
Котировки на прокат в Китае после майских праздников пошли вверх, приближаясь к экспортному паритету. На торгах Шанхайской фьючерсной биржи стоимость арматуры по наиболее торгуемому октябрьскому контракту к концу прошедшей недели превысила отметку 5670 юаней ($780 без НДС) за т, а горячекатаный прокат лишь немного не дотянул до 6000 юаней ($825,5). И в том, и в другом случае котировки превысили прежний рекордный уровень 2008 г.
В секторе листового проката китайские компании заранее подняли стоимость своей продукции на экспорте, заложив в нее отмену возврата НДС. А вот для поставщиков сортового проката такое развитие событий стало неожиданностью. Реакцией на действия китайского правительства стал скачок цен на арматуру и товарную заготовку. Тем более, что в Китае была отменена 2%-я импортная пошлина на полуфабрикаты, что уравняло в правах производителей из стран АСЕАН, для которых ранее действовала свобода торговли, и всех остальных.
После Первомая предложения на поставку заготовки в Китай достигли $680-700 за т CFR. Турецкие металлурги смогли взвинтить экспортные котировки на арматуру на $40-50 за т по сравнению с концом апреля, приблизив их к рубежу $700 за т FOB. При этом они начали усиленно скупать металлолом, спровоцировав его взлет почти до $490 за т CFR. По оценкам британского издания «Metal Bulletin», в текущем месяце стоимость этого сырья в Турции и странах Восточной Азии может превысить $500 за т. А железная руда между тем уже подорожала до $200 за т CFR Китай, превысив прежний рекорд 2011 г.
Впрочем, цены на листовой прокат в прошедшую неделю тоже не пасли задних. В Евросоюзе корпорация ArcelorMittal объявила об очередном повышении, в результате которого базовые цены на горячекатаный прокат возросли у нее до 1050 евро за т EXW. Реальные сделки достигли 1020-1050 евро за т, причем большинство европейских компаний принимают заказы с поставкой в октябре. В США спотовые котировки на горячекатаный прокат пока приостановились у отметки $1650 за т EXW, но могут снова прибавить в середине текущего месяца.
При этом стальная продукция не является изолированной от других рынков, где тоже идет беспрецедентно масштабное повышение цен. Американские эксперты уже, не скрывая, упоминают в своих материалах о происходящей в ресурсом секторе гиперинфляции и называют ее причинами продолжающийся приток эмиссионных денег в реальный сектор при недостаточных объемах производства. При этом денежная масса нарастает заведомо быстрее, чем может увеличиваться выпуск товаров. Все-таки, построить завод или хотя бы вернуть в строй доменную печь несколько сложнее, чем вбросить в экономику денежную сумму с энным количеством нулей.
Впрочем, известный американский биржевой аналитик Майкл Ли (Michael Lee), чье мнение приводит Kitco News, «успокаивает» публику тем, что Штатам не грозит участь Зимбабве, и американские доллары не придется считать миллионами и миллиардами в магазинах и на бензоколонках.
По его мнению, США идут по японскому пути конца 80-х гг. Денежная накачка экономики сопровождается падением оборачиваемости, поэтому цены, конечно, растут, но не так уж и сильно. Основной рост происходит на фондовом рынке, где гиперинфляция проявляется в стремительном надувании стоимости активов.
Действительно, в Японии в 1989 г. цена квадратного метра земли в центре Токио достигала $1 млн., а ведущие японские банки и компании занимали ведущие места в мире по стоимости активов и рыночной капитализации. Но как только пузырь лопнул, произошел всеобщий крах, так как этими раздутыми активами были обеспечены множество кредитов, в один миг ставших безвозвратными. Именно тогда японская экономика ухнула в глубокую депрессию, из которой так и не вышла. И не до сих пор не вышла, а безвозвратно, вообще.
Поэтому предсказание для экономики США японского пути никак не назовешь оптимистичным прогнозом. Однако, как отмечает Майкл Ли, остановиться американские власти уже не могут. Если они прекратят печатать деньги или приподнимут хотя бы на пару процентных пунктов кредитные ставки, страна тут же свалится в кризис. Поэтому строительство финансовой «Вавилонской башни» будет продолжаться, а цены будут становиться все выше.
По мнению аналитиков «Metal Bulletin», в середине текущего года на мировом рынке листового проката может начаться коррекция, основной причиной которой станет расширение объемов предложения, в частности, за счет увеличения импорта. Однако цены, близкие к рекордным, могут сохраниться, как минимум, до конца 2021 г.
Причем это еще и весьма оптимистичный взгляд. Если денежная эмиссия в западных странах не утихнет, не будет причин и для остановки инфляции. Во всяком случае, признаков ее торможения пока не наблюдается. Вот если ArcelorMittal в конце текущей недели не объявит о новом повышении, тогда да, это будет сигнал.
Российский рынок стали вынужден следовать за мировым. Как говорится, танцуют все! Экспортные котировки на отечественную заготовку в ближайшее время могут достигнуть $650 за т FOB, а горячекатаный прокат уже превысил $1000 за т FOB при поставках за пределы Европейского Союза.
Дистрибьюторы в Москве и области, не делая перерыва на майские праздники, взвинтили цены на арматуру в своих прайс-листах до 64-65 тыс. руб. за т, а на горячекатаный прокат – до 100 тыс. руб. за т! При этом металлургические компании, на которых вынуждены ориентироваться металлотрейдеры, расписали следующие повышения вплоть до августа.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

«Кто виноват?» и «Что делать?» — извечные русские вопросы, к которым нас подводит сложившаяся к майским праздникам обстановка на российском и мировом рынке стали.
Подорожание стальной продукции в США, Европе, Китае, откуда оно перекинулось в наши края, не прекращается, хотя цены в некоторых регионах почти достигли рекордного уровня лета 2008 г., а кое-где давно его превысили.
Корпорация ArcelorMittal в восьмой раз подряд завершила очередную неделю свежим повышением котировок на листовой прокат. Теперь у нее базовая цена на горячекатаную продукцию составляет 1020 евро за т EXW, а на холоднокатаные рулоны и оцинкованную сталь — 1200 евро за т. В США некоторые компании выставляют предложения на июньские поставки горячекатаного проката на уровне около $1650 за т EXW.
Свою лепту во всеобщий подъем внесло правительство Китая, с 1 мая отменившее возврат НДС при экспорте 146 категорий стальной продукции. Ранее предполагалось, что оно ограничится горячекатаным прокатом, который уже успел подняться до более $900 за т FOB, и возможно, арматурой и катанкой, но в список попало почти все.
Так что теперь и российские импортеры китайской нержавеющей стали получили извещение о том, что все отныне дорожает еще на 13%. В то же время, китайцы отменили импортную пошлину на заготовку, что дало российским металлургам возможность поднять экспортные котировки на нее на $10-20 за т.
Нечто подобное наблюдалось в последний раз в 2008 г., но сейчас ситуация кардинально иная. Тогда цены взлетели вверх, но потом с грохотом рухнули, а вся мировая экономика провалилась в глубокий, хотя и не долгий кризис. Теперь же стоимость стальной продукции поднимается на новые вершины, чтобы оттолкнуться от них и лезть дальше.
В США опрос, проведенный в конце апреля S&P Global Platts, показал, что 75% представителей производителей проката, 79% потребителей и 83,5% дистрибьюторов считают, что рост цен будет продолжаться и в мае. При этом на бирже сужается разница между спотовыми и фьючерсными контрактами. По оценкам участников торгов, горячекатаный прокат в декабре будет стоить порядка $1420-1450 за т.
Более того, американская компания Steel Dynamics предсказывает, что ажиотаж на национальном рынке листового проката не прекратится и в 2022 г. А управляющий директор индийской компании Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) В.Р. Шарма высказал предположение, что ценам на стальную продукцию на мировом рынке понадобится два года, чтобы перейти от нынешнего подъема к спаду. Разве что в Европе перелом может наступить уже в июле, если Европейская комиссия прислушается к мнению потребителей и отменит либо хотя бы ослабит ограничения на импорт стальной продукции.
Впрочем, к радикальному изменению ситуации этот фактор не приведет. Если в Китае правительство хоть как-то заботится о сбалансированности госбюджета и уже начинает отменять некоторые крупные инфраструктурные проекты как слишком дорогостоящие, то западные страны пустились во все тяжкие. Приток денег в их экономику не прекращается. Это оборачивается растущим платежеспособным спросом на металлы, пиломатериалы, пластики, контейнерные перевозки, микросхемы и многое другое. Инфляция стремительно раскручивает цены на ресурсы.
Повернуть этот процесс вспять нельзя. Попытка снятия экономики с «денежной иглы» обернется сильнейшей «ломкой» — всесокрушающей лавиной невозвратов, дефолтов и банкротств, схлопыванием сначала спроса, потом производства, а потом еще раз спроса — по кругу. Поэтому пирамиды будут надстраиваться, а цены расти, пока… пока, наверное, сумасшедшее колесо потребления не раскрутится так сильно, что слетит с нарезки.
Конечно, можно предположить, что производители когда-нибудь нарастят выпуск, чтобы покрыть сузившийся из-за дороговизны видимый спрос, что позволит сбалансировать его с предложением. Но и это ничего окончательно не решит. Если объявить коронавирус побежденным, отменить локдауны и прекратить выплачивать компенсации и пособия, все немедленно обрушится. А если оставить денежную накачку, она будет и дальше приводить к дефицитам и новым повышениям цен.
Итак, с тем, кто виноват в том, что стоимость листового проката в России за последние полгода поднялась более чем в два раза, а арматуры — в полтора, мы разобрались. В том, что нынешние котировки ни в коем случае не являются пиковыми, а имеют достаточный потенциал для продолжения роста, — определились. Осталось понять, что теперь со всем этим делать.
Как всегда, самый простой вариант — не делать ничего. Не мешать производителям развивать несырьевой экспорт и приравнивать внутренние цены к растущим мировым. Рынок, как говорится, порешает и все выправит. Правда, не сразу и не за бесплатно.
Непрерывное увеличение издержек, к которым для конечных потребителей относится металлопрокат, приведет, в первую очередь, к выбыванию (или, может, выбиванию) наиболее слабых игроков, которые не смогут покрыть нарастающие убытки. Зато оставшиеся, перетерпев, поднимут цены на свою продукцию, и так подорожание, пройдя по всей производственно-сбытовой цепочке, достигнет наконец самых конечных потребителей.
При этом объем рынка, мало изменившись в стоимостном выражении, резко сузится в физических показателях — тоннах, штуках и квадратных метрах. Рост цен будет опережать расширение покупательской способности. Тем более, что многие производственные мощности окажутся невостребованными, а оставшиеся на рынке компании поневоле включат режим самой жесткой экономии. Для России это чревато провалом в 90-е годы, когда основным источником доходов бизнеса станет экспорт, а персонал и расходы на социалку перейдут в разряд досадных издержек.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Мировая экономика идет вразнос. Дефициты в ней становятся объективным и постоянным фактором. В Евросоюзе наблюдается галопирующий рост цен на листовой прокат. Корпорация ArcelorMittal взяла за правило повышать котировки по четвергам. Теперь базовый уровень для горячекатаного проката достиг 970 евро за т EXW. Реальные продажи, правда, пока что, как правило, не превышают 920 евро, но это временное явление. Некоторые специалисты предсказывают, что в третьем квартале в Германии горячекатаный прокат выйдет на отметку 1000 евро за т с доставкой.
В США верхний уровень цен на данную продукцию превысил $1540 за т EXW, но там, по крайней мере, появился свет в конце туннеля. Предполагается, что во втором полугодии объем предложения возрастет за счет импорта, что позволит постепенно спустить котировки до $1100-1200 за т к концу текущего года. В Европе важнейшее значение приобретет решение Европейской комиссии о сохранении либо отмене импортных квот после 30 июня.
Цены растут за рубежом, значит, подъем наблюдается и в России. Меткомбинаты, не дожидаясь начала мая, уже предлагают горячекатаный прокат более чем по 85 тыс. руб. за т CPT, а холоднокатаный подорожал до более 100 тыс. руб. за т. И как ни печально, это, скорее всего, еще не пик. На экспорте производители ориентируются уже на $1000 за т FOB, что соответствует порядка 91-92 тыс. руб. за т с НДС. Большая часть продукции отгружается за рубеж или по прямым контрактам с крупными российскими потребителями, а вот спотовый рынок столкнулся с настоящим, неподдельным и непреодолимым дефицитом.
Правительство, увы, самоустранилось от контроля цен на стальную продукцию на внутреннем рынке. Сил хватило только на продовольствие, а все остальное отдано на произвол… можно было бы сказать, рыночных сил, но они ни в какую масть не рыночные! Мировой рынок проката, как и вся глобальная экономика, перекорежен и искажен. Не имея сил заказать собственную музыку, мы вынуждены плясать под чужую дудку.
Понятно, что последствия всей этой какафонии будут самыми разрушительными. В российской экономике снова обостряется дефицит денег. Как отмечают многие металлотрейдеры, в первом квартале продажи просели на 20-30% по тоннажу — это первый эффект дороговизны. Вернутся ли потерянные покупатели на рынок, если прокат снова подешевеет, большой вопрос. Скорее всего, нет. Да и возвращение цен хотя бы на докризисный уровень 2018 г., когда российский горячекатаный прокат на экспорте доходил до $600 за т FOB, может очень сильно отдалиться. Не исключено, что для такого удешевления понадобится полноценный кризис с глобальным обвалом цен и спроса. Но пока деньги миллиардами и триллионами достают из «тумбочек», этого не произойдет.
Еще одно неприятное следствие хронической нехватки денег у российских компаний — поголовная гонка за дешевизной. Грошовая (или даже не совсем грошовая) экономия на проработке проектов, квалифицированных специалистах, качественных материалах, оборудовании, своевременной оплате труда подрядчиков и многом другом оборачивается огромными потерями. В первую очередь, убиваются на корню любые высокотехнологичные производства. Отдельные оазисы существуют только в немногих крупных передовых корпорациях, государственных и частных.
Следует отметить, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в секторе листового проката. Здесь трудно что-либо сделать, не прибегая к самым сильнодействующим средствам государственного контроля. Но вот наметившееся в последнее время повышение цен на арматуру выглядит неоправданным. Да, это необычно и непривычно, но лист и сорт очень сильно оторвались друг от друга. Если для горячекатаного проката и $1000 за т FOB может оказаться не самым предельным значением, то для заготовки $600 за т FOB Черное море — это оптимум, выше которого она в ближайшее время может не подняться.
Основным источником подъема цен на заготовку и сортовой прокат является Китай. Местное правительство, объявив одним из своих приоритетов борьбу с глобальным потеплением, словно задалось целью продемонстрировать, к каким непростым последствиям это может привести даже в самой легкой форме и на самом раннем этапе. Уровень загрузки мощностей китайских меткомбинатов снижался весь март и только в апреле возобновил рост. Из-за административного ограничения производства стали на национальном рынке возник дефицит товарной заготовки, а арматура поднялась до более 5000 юаней за т ($678 без НДС). По нашим меркам, это свыше 62 тыс. руб. за т с НДС. Это при том, что еще в прошлом году 4000 юаней за т считались в Китае достаточно высоким уровнем.
Китайцы начали в больших количествах закупать заготовку, превысившую $650 за т CFR. Везти ее из черноморских портов накладно, да и долго — в июне на Дальнем Востоке начнется дождливый сезон. Но российские компании, осуществляющие поставки через Владивосток и Находку, получили хороший рынок сбыта. Однако больше всех от оживления в Китае выиграли вьетнамские и индонезийские компании. В свою очередь, они увеличили импорт металлолома, и тот снова поднялся в цене.
Вообще, за пределами Китая и пары-тройки стран строительный сектор находится в депрессивном состоянии. По оценкам Worldsteel, в 2020 г. спрос на прокат в этой отрасли в глобальном масштабе сократился на 3,9% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2009 г. спад составил только 1,9%. По этой причине мировые цены на сортовой прокат повысились за последние полгода довольно умеренно — на 40-45%, тогда как лист прибавил за то же время 80% и более. А при достаточно вялом спросе на заготовку и арматуру за пределами Китая цены на эту продукцию зависят, прежде всего, от дороговизны металлолома.
Рынок лома между тем тоже столкнулся с дефицитом. Это наблюдается у нас, где цены достигают $340-350 за т FCA без НДС, это происходит и в других странах. Климатическая политика требует от металлургов сокращения выплавки стали с использованием доменно-конвертерного процесса, из-за чего растет спрос на альтернативный металлолом. В то же время, объем ломосбора — показатель относительно постоянный, быстро он не меняется.
Второй квартал традиционно является периодом сезонного понижения цен на лом. Но, учитывая недостаточный объем предложения, его стоимость в Турции и странах Восточной Азии в обозримом будущем вряд ли понизится до существенно менее $400 за т CFR. Соответственно, и стоимость заготовки российского производства на Черном море, скорее всего, будет оставаться в пределах $550-600 за т FOB. Не больше, но и не меньше. Поэтому и для арматуры на российском рынке нижняя ценовая граница будет проходить где-то в районе 50 тыс. руб. за т с НДС, а верхняя должна немного превышать 55 тыс. руб. за т.
В принципе, для стройки сейчас начался высокий сезон. А темпы роста будут зашкаливать благодаря эффекту низкой базы. Но понять, кто чего стоит на самом деле, можно будет только летом.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Как пишут в учебниках, классический кризис — это кризис перепроизводства (или, точнее, недопотребления, что кардинально иное, но дает тот же результат). Произведенные товары невозможно продать, платежеспособный спрос рушится на глазах, цены валятся вниз.
Возможно, экономисты всегда готовятся к прошедшим кризисам, как генералы — к уже отгремевшим войнам. Однако, как оказалось, кризисы бывают и совсем другие, когда спрос есть, денег вроде бы хватает, и это не гиперинфляционные фантики, а настоящая твердая валюта, но не оказывается в достатке товаров, чтобы этот спрос удовлетворить.
Те, кто постарше, помнят времена тотального дефицита, но и это не тот случай. Дефицит — это когда нужных товаров нет в открытой продаже, но для нужных людей, из-под полы и втридорога все при желании можно достать. Нынешний же рынок относительно открытый и прозрачный, тени в нем практически нет. Просто определенных товаров, будь то, например, микросхемы или листовой прокат, нет в нужном количестве, чтобы не только покрыть текущие потребности, но и создать какой-то запасец.
Причем этот дефицит имеет избирательный характер. Если при гиперинфляции одинаково растет в цене все, вернее, дешевеют и теряют свою ценность деньги, то в текущем кризисе происходит выборочное увеличение затрат на отдельные виды ресурсов.
Самое интересное, что в западных странах, откуда к нам пришел этот необычный кризис, непрерывный рост цен на листовой прокат продолжается уже пять месяцев, с начала ноября прошлого года. И все это время на рынках наблюдается острый дефицит, который почему-то никуда не исчезает. Безобразие! Что делает «невидимая рука рынка»?! Почему она злостно бездельничает?!
Ну хорошо, в Европе действуют импортные квоты, которые то ли отменят, то ли нет в середине текущего года. Но почему европейские металлурги не могут выйти даже на докризисный уровень?! Почему, по данным Worldsteel, выплавка стали в ЕС-27 по итогам января-февраля 2021 г. была на 3,7% меньше, чем годом ранее?! Что помешало европейским производителям в условиях рекордного с 2008 г. взлета цен нарастить выпуск?! Почему в США за те же два месяца отставание составило почти 10% по сравнению с прошлогодним графиком?!
Насчет США кое-какой ответ дал глава местной компании Cliffs Лоренцо Гонсалвеш, когда его спросили, почему из десяти имеющихся в его распоряжении доменных печей загружать в обозримом будущем планируется от шести до восьми. Как можно было понять этого достойного господина и эффективного менеджера, компания ставит на первое место прибыльность бизнеса, а не объемы производства, и не намерена изменять этому принципу даже в условиях острого дефицита проката на американском рынке.
Второй ответ дает недавно проведенное исследование британской консалтинговой компании McKinsey & Co. Согласно ее расчетам, европейский рынок стали продолжает сужаться. Если в 2004-2008 гг. средний объем потребления стали в ЕС составлял 188 млн. т в год, то в 2011-2019 гг. — уже 153 млн. т, а после 2020 г. этот показатель сократится до 140-150 млн. т в год. Увы, дезиндустриализация Европы — похоже, процесс необратимый. Там даже некому прокукарекать что-то вроде: «Make Europe Great Again!» В результате, по мнению аналитиков McKinsey, чтобы обеспечить нормальный уровень загрузки — порядка 85%, в ЕС и Великобритании надо вывести из эксплуатации избыточные мощности в объеме 25-30 млн. т в год.
Таким образом, начавшийся в ноябре подъем — явление конечное, а после него придется снова положить зубы на полку. Поэтому металлурги не видят необходимости в том, чтобы вкладываться в срочное возвращение в строй мощностей, которые через несколько месяцев опять окажутся избыточными и убыточными.
Кроме того, есть и третий ответ, который приводит S&P Global Platts, ссылающийся на опрос, проведенный среди германских металлургов. Сейчас инвестиционные бюджеты региональных сталелитейных компаний направлены на снижение выбросов углекислого газа, т. е. борьбу с глобальным потеплением. На прочие цели, в частности, расширение производства, денег уже не так, чтобы хватает.
И пока Еврокомиссия не отменяет импортные квоты, а правительства европейских стран, продлевая локауты, не перестают исправно выплачивать пособия и компенсации, ничего не мешает ценам на дефицитную стальную продукцию расти все выше и выше. Базовые цены на горячекатаный прокат там уже достигли 900 евро за т EXW. В Турции, равняющейся в этом плане на Европу, они, кстати, доросли до $1000 за т — на радость российским экспортерам.
В Азии между тем солирует Китай, где местные власти, тоже внося свой вклад в борьбу с глобальным потеплением и заявляя со всех трибун о необходимости сокращения производства стали, буквально из ничего создают собственный кризис недопроизводства. И с ним же героически борются, вводя барьеры для экспорта. Пекин уже, считай, несколько недель держит рынок в подвешенном состоянии, готовясь отменить НДС для экспортеров проката и при этом не объявляя о вступлении этого решения в силу.
Китайские компании, уставшие ждать, уже исходят из того, что 13% экспортного НДС у них так или иначе отберут, и заблаговременно подняли экспортные котировки на горячекатаный прокат до $900 за т FOB. В этом они получили горячую поддержку со стороны всех прочих поставщиков данной продукции в регионе. Японцы, например, уже $1000 за т CFR Вьетнам запрашивают.
Итак, кризис налицо, и не спрятаться от него никому, не скрыться. На российском рынке уже вполне есть свой дефицит, вызванный, в частности, запланированными на текущий месяц ремонтами, а цены на стальную продукцию подтягиваются к экспортному паритету. Апрельские котировки комбинатов на горячекатаный прокат уже подскочили от прежних 70 тыс. до не менее 75 тыс. руб. за т CPT. На май пока что анонсируются 80 тыс. руб. за т, но по нынешним временам и с учетом опять просевшего курса рубля это уже как-то мелковато.
Заграница нам по-прежнему только гадит, но и родное правительство не поможет. Минэкономразвития, по словам министра Максима Решетникова, считает нецелесообразным вводить в России демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на металлопродукцию, поскольку полагает, что введение экспортных пошлин очень быстро приведет к дефицитам.
Честно говоря, такую логику понять немного трудно, потому что демпфер по типу того, что уже вводится на рынке зерновых, не причиняет убытков производителям, а лишь режет им конъюнктурные сверхприбыли и давит вниз экспортный паритет. И вообще, для металлургических комбинатов очень важное значение имеет уровень загрузки. Уменьшать его только для того чтобы сократить поставки на внутренний рынок, которые все равно остаются прибыльными, — это что-то из категории жестких извращений.
Другое дело, что министр в целом частично прав, сообщая, что введение демпферов не только нецелесообразно, но по большому счету и невозможно. Это пшеницу и кукурузу можно привести к единому знаменателю и базовой цене отсечения. На рынке стальной продукции, где существует множество категорий стальной продукции, а котировки на одни виды проката колеблются по-иному, чем на другие, Министерство просто замучается создавать какой-то механизм управления. Кроме того, поставщиков зерна в России много, а горячекатаного листового проката, по сути, — только три. Типичный олигархический… нет, олигополистический рынок!
Да, правительство озабочено выросшими ценами на металл, но его заботы пока что ограничиваются стальной продукцией строительного назначения, с которой дела обстоят не так трагично, как с листом. Особого дефицита в этом секторе мирового и российского рынка нет. Цены, конечно, высоковатые, если сравнить с прошлыми годами, но и совсем уж непосильными их не назовешь.
Вообще, на самом деле проблема с инфляцией, которая раскручивается в России вследствие роста цен на многие виды ресурсов на мировом рынке, имеет, можно сказать, концептуальный характер. Побороть ее можно только одним способом — в той или иной степени отрезать нашу страну от глобальной экономики, уходить в автаркию, возвращать государственную монополию внешней торговли либо жестко контролировать ценообразование. Иными словами, здравствуй, СССР2.0!
В принципе, ничего особо ужасного в этом нет. Прежняя сверхдержава, чей цвет — красный, потенциально была весьма перспективным экономическим образованием, а вместе с СЭВ — так особенно. Увы, в те времена некому было осмыслить концепцию страны-мегакорпорации с достаточно сильным артельным сектором, а экономические эксперименты конца 50-х и 60-х гг. вообще поставили на будущем Союза жирный крест.
Сейчас такой вариант выглядит чистой воды фантастикой. Нет ни кадров, ни зарубежных партнеров, с которыми можно было бы выстроить новую экономическую модель, ни желания проводить новые широкомасштабные социальные революции. Хотя, кто знает, кто знает?.. Нынешний западный мир становится все более безумным, неуютным и непривлекательным местом, так что порой возникает желание отделиться от него подальше.
Но, если не можешь стать ведущим, приходится быть ведомым. Если предпочитаешь автаркии открытую экономику, приходится принимать все ее преимущества и недостатки. В том числе, вынужденное следование правилам, которые не ты принимаешь и устанавливаешь. Кстати, это относится не только к ценам на ресурсы, но и к такому потенциально конфликтному предмету как борьба с выбросами углекислого газа и глобальным потеплением.
Россия, между прочем, занимает четвертое место в мире по объемам эмиссии Цэ-О-два после Китая, США и Индии, и есть подозрение, что одними цветочками и помидорами, т. е., конечно, нашими лесными богатствами мы не отбрешемся. Придется либо участвовать во всеобщем безумии, наводняя города электроповозками, строя ветряки вместо электростанций и обваливая собственную промышленность и жизненный уровень населения, либо… когда-нибудь сказать этому твердое «Нет!» и принимать на себя последствия.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Рынок стали сильно перегрет. Спрос на стальную продукцию в мировом масштабе превышает предложение, что приводит к дефициту и подъему цен. Основные процессы происходят в западных странах и в Китае, но российская экономика тесно связана с мировой, поэтому стоимость стальной продукции на отечественном рынке неизбежно подтягивается к экспортному паритету.
Между тем, котировки на российский горячекатаный прокат при поставках в страны Евросоюза достигли $900 за т FOB и более, а на других направлениях могут превышать $850 за т FOB. Соответственно, меткомбинаты выставляют на май цены на уровне 75-80 тыс. руб. за т с НДС для отечественных потребителей.
Для российской экономики такое подорожание, приближающееся уже к двукратному по сравнению с серединой прошлого года, представляет собой крайне негативный фактор. Проблема заключается в том, что у предприятий, использующих металлопродукцию, растут именно затраты, а ни в коем случае не готовая продукция, цена которой не определяется ни экспортными, ни импортными паритетами за отсутствием таковых.
При этом российский бизнес, за исключением самого крупного, и так в последние годы сталкивался с постоянным ростом издержек на налоги, платежи, услуги «естественных» монополий и прочее на фоне стагнирующего спроса и понижения конечных оптовых (но не розничных!) цен. И для кого-то резкое увеличение стоимости металла будет уже не последним гвоздем в гроб, а целым костылем! Сейчас серьезно возрастает опасность попадания значительной части российской экономики в воронку бедности с постоянно сужающимися спросом, доходами и производством.
Может ли эта проблема решиться естественным путем, без серьезного вмешательства государства в экономику, только под влиянием рыночных сил? Вообще-то да. Рынок всегда цикличен, за подъемами там всегда следуют спады. Вопрос только в том, как долго продлится нынешний период безудержного роста?
В западных странах биржевые фьючерсы на листовой прокат показывают начало предполагаемого снижения в середине текущего года. Однако в США, например, удешевление горячекатаного проката хотя бы до $1000 за т ожидается не раньше, чем в первом квартале 2022 г. В Евросоюзе металлургические компании обеспечены заказами до августа-сентября, а оцинкованная сталь уже продается некоторыми компаниями с поставкой в четвертом квартале. Там не надеются на понижение до конца лета.
В последнее время рванул вверх Китай. За вторую половину марта горячекатаный прокат прибавил там около 10% благодаря введению в силу производственных ограничений в городском округе Таншань, на который в 2020 г. пришлось 13,5% выплавки стали в Китае, а также вследствие повышенного спроса.
По данным китайской консалтинговой компании Mysteel, видимое потребление стальной продукции в стране в апреле будет на 10% выше, чем годом ранее. Причем, в прошлом апреле Китай уже отменил большую часть карантинных ограничений. Судостроители, производители бытовой техники и других потребительских товаров, машиностроители и поставщики промышленного оборудования получают рекордные объемы заказов. Инвестиции в транспортную инфраструктуру в этом году, по прогнозу Mysteel, превысят прошлогодние показатели на 16,4% и достигнут 3,1 трлн. юаней ($472 млрд.).
Возможно, во втором полугодии ажиотаж на китайском рынке несколько схлынет, но второй квартал обещает быть очень оживленным. Более того, правительство страны уже несколько недель держит экспортеров проката в подвешенном состоянии, заявляя о намерении отменить для них возврат НДС, чтобы больше продукции оставалось для внутреннего потребления. Некоторые китайские компании, готовясь к этому шагу, задрали экспортные котировки на горячекатаный прокат до более $850 за т FOB.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Прошедшая неделя выдалась очень турбулентной. Она началась с визита Сергея Лаврова в Китай, продолжилась обменом санкциями между Китаем и западными странами и дошла до кульминации при посадке на мель поперек Суэцкого канала застрявшего контейнеровоза.
На мировом рынке стали между тем возникают и растут разрывы. Цены на листовой прокат изменяются совсем в другом ключе, чем на сортовой. В западных странах, Китае и остальном мире наблюдаются совершенно различные тенденции, ведущие к не соответствующим друг другу результатам.
На Западе продолжается взлет цен на листовую продукцию. В Евросоюзе базовые котировки на горячекатаный прокат превысили 800 евро за т EXW, достигнув очередного наивысшего значения с 2008 г., а ArcelorMittal объявила об их повышении до 900 евро за т. В США некоторые компании выставляют предложения из расчета более $1500 за т.
Видимая часть этого айсберга заключается в том, что местные компании по-прежнему не в состоянии полностью удовлетворить внутренний спрос, а импорт ограничивается. Ситуация осложняется тем, что загрузка мощностей европейских и американских металлургов достигла максимально возможного в нынешних обстоятельствах уровня, из-за чего избыточный, разогревающий рынок спрос переходит из месяца в месяц.
В частности, складские запасы в германских сервисных металлоцентрах с конца прошлого года находятся на минимальной отметке за последние три десятилетия и никак не могут возрасти. Более того, по данным Platts, в феврале резервы даже немного сократились, поскольку потребительский спрос превышает поступления металла от производителей. Поэтому трейдеры ставят объемы выше цен и готовы заключать контракты за любые деньги. Между тем, книги заказов металлургических предприятий и так заполнены на три-пять месяцев вперед.
Постоянное увеличение стоимости стальной продукции приносит свои проблемы. Металлотрейдерам и конечным потребителям нужно дополнительное финансирование на закупку конкретно подорожавшего проката. Но банки не дают им этих денег, отказываясь расширять кредитные линии. Это приводит к тому, что некоторым компаниям приходится ограничивать приобретение стальной продукции, снижая загрузку своих мощностей, или вовсе уходить с рынка.
Данная проблема в последнее время приобретает все большую остроту в России. Но то же самое происходит в Европе, США и Китае. Предыдущий абзац — это, вообще-то, цитата из недавней статьи в Platts с небольшим дополнением из материала китайской Mysteel. В связи с этим возникает резонный вопрос: а как долго рынок сможет выдержать эту бешеную раскрутку?
На представительной конференции 2021 International Iron Ore Market Seminar в китайском городе Циндао интересную мысль высказал заместитель генерального секретаря китайской металлургической ассоциации CISA Ван Йиншэн (Wang Yingsheng). По его словам, второй квартал будет очень «горячим» с точки зрения спроса. В Китае его будут формировать, в первую очередь, строительство, где реализуются запущенные в прошлом году в рамках постковидного стимулирования проекты, а во вторую, промышленность, доверху загруженная экспортными заказами на бытовую технику и другие потребительские товары для американских и европейских покупателей.
Однако во втором полугодии, как считает китайский эксперт, ситуация поменяется. Правительство КНР снова ужесточает ограничения на коммерческую покупку недвижимости. В первые два месяца 2021 г. количество новых строек сократилось на 9,4% по сравнению с тем же периодом докризисного 2019 г. А реализация инфраструктурных проектов может сильно замедлиться из-за превышения бюджетов. Стальная продукция в Китае вообще-то сейчас стоит на 35-45% дороже, чем в начале 2020 г. когда о коронавирусе знали только узкие специалисты. Конечно, это не сравнить с Европой и даже Россией, но и подъем цен на прокат более чем на треть плохо укладывается в сметы.
Кроме того, Ван Йиншэн считает, что во второй половине 2021 г. спрос на китайские товары за рубежом упадет вследствие насыщения рынка. А в самой КНР подорожание проката, цветных металлов, пластиков и других ресурсов пройдет по всей производственной цепочке вплоть до готовой продукции и вызовет сужение платежеспособного спроса и на нее.
В западных странах в середине года возможна отмена локдаунов, что должно привести к уменьшению потребления товаров в пользу возрождающейся сферы услуг. Так же не исключено, что будет снижен уровень финансовой поддержки населения. Впрочем, там ситуация очень неоднозначная.
Наконец, еще выше поднимутся цены, прежде всего, на листовой прокат. Ситуация с сортовым выглядит не такой напряженной. Трудности, с которыми столкнулась турецкая экономика, привела к снижению цен на металлолом и заготовку на внешних рынках. А их восстановлению будет препятствовать рекордный рост затрат на морские перевозки. Из-за тотальной нехватки контейнеров и судового тоннажа стоимость доставки за последние полгода подскочила в несколько раз по всем направлениям. Из-за этого экспортерам приходится снижать цены FOB.
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз может еще сильнее обострить ситуацию, хотя и на ограниченный период. В любом случае, транспортный кризис в ближайшие пару-тройку месяцев не закончится. Прекратиться он сможет только после насыщения западных рынков азиатскими товарами и снижения видимого спроса на них, а это произойдет, скорее всего, не раньше второй половины текущего года.
Поэтому цены на арматуру в России в обозримом будущем, скорее всего, останутся в интервале 50-55 тыс. руб. за т с НДС, а вот горячекатаный прокат, вышедший на рубеж 70 тыс. руб. за т, на нем не остановится. В этой связи вспоминается, что в 2018 г. российское правительство смогло обуздать подъем цен на бензин, причиной которого стал тот же рост экспортного паритета. Тогда был введен так называемый демпферный механизм, в рамках которого государство компенсировало нефтяникам прибыли, недополученные из-за того, что внутренние цены удерживались существенно ниже экспортного паритета.
Так почему бы не ввести аналогичную систему и для металлургов? И с тем же условием, что в случае превышения внутренних цен над экспортными они должны будут делиться сверхприбылями с государством. Конечно, это потребует постоянного мониторинга котировок на различные виды проката и значительных расходов, но зато от сокращения затрат на металлопродукцию однозначно выиграет вся экономика!
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

В западных странах подъем цен на стальную продукцию идет с неослабевающей скоростью. В Евросоюзе корпорация ArcelorMittal объявила очередное повышение. Теперь она предлагает горячекатаный прокат по 850 евро за т EXW за базу. В Турции местные металлургические компании взвинтили котировки на данную продукцию до более $900 за т, а в США некоторые производители рассчитывают на скорый подъем до $1500 за т.
При этом прокат буквально отрывают с руками. Та же ArcelorMittal заключает сделки на сентябрь, а контракты на продукцию с более высокой добавленной стоимостью предусматривают поставку уже в четвертом квартале текущего года. Европейские сервисные металлоцентры жалуются на то, что им уже несколько месяцев не удается восстановить складские запасы. Прокат разбирают быстрее, чем успевают придти новые партии с метзаводов.
Причиной такого невероятного роста, достигшего рубежей 2008 г., а то и установившего новые рекорды, специалисты называют «перепотребление». Правительства многих стран мира, борясь с последствиями коронавируса, забрасывают свои экономики деньгами в беспрецедентных масштабах. США, например, за последний год довели этот показатель до $6,4 трлн., включая недавно одобренный Конгрессом новый пакет в $1,9 трлн. Японцы запустили ряд программ более чем на $2,8 трлн. Китайцы обошлись немногим более $500 млрд., зато направили их в реальный сектор. Вообще, только полные нищеброды не поддержали свое хозяйство хотя бы парой десятков миллиардов в долларовом эквиваленте.
При этом, в ходе карантинов была в значительной мере выбита сфера услуг. А деньги, не потраченные на туризм, развлечения и общепит, были израсходованы, например, на покупку товаров. Китай, чьи компании, в основном, и выполняют западные заказы, показал по итогам первых двух месяцев 2021 г. фантастические темпы роста производства бытовой техники. Так, выпуск телевизоров прибавил более 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а кондиционеров — более 70%, до 29,4 млн. штук!
Не удивительно, что китайский рынок стали тоже растет как на дрожжах. По сравнению с январем-февралем 2020 г. объем выплавки увеличился на 12,9%, производство готового проката — на 23,6%, включая двойной счет, арматуры — на 19%. Конечно, здесь надо учитывать эффект низкой базы, так как именно в феврале прошлого года Китай был тотально закрыт на карантин. Тем не менее, в абсолютном значении все эти показатели значительно превышают докризисный 2019 г.
Для доставки товаров из Китая и стран Юго-Восточной Азии в США и Европу не хватает судов. Тарифы на фрахт взлетели и, по мнению специалистов, не уменьшатся, как минимум, до июня. Тем не менее, весь этот потребительский бум в последнее время все больше воспринимается как странный и необоснованный.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

На мировом рынке стали прошедшая неделя была неоднозначной. Листовой прокат продолжал дорожать в Евросоюзе, США, Турции. Здесь спрос на него по-прежнему отстает от предложения. Металлургические компании заключают контракты на июнь, а некоторые — даже на август. Ранее понижательную коррекцию прогнозировали в апреле-мае, теперь ожидания переместились на август-сентябрь.
В начале прошедшей недели внезапно упали цены на стальную продукцию и железную руду в Китае. И причин для этого было достаточно. Во-первых, власти заявляют, что коронавирус в КНР побежден окончательно и бесповоротно, поэтому больше не надо применять чрезвычайные меры по стимулированию экономического роста. Государство впредь будет давать меньше денег бизнесу и меньше вкладывать средств в строительство.
Во-вторых, правительство и деловые круги КНР озаботились борьбой с глобальным потеплением. А чтобы уменьшить выбросы углекислого газа, нужно сокращать выплавку чугуна и сместить сырьевой баланс в металлургии в сторону металлолома. Наконец, в-третьих, на северо-востоке страны обострились проблемы с экологией. Чтобы снизить загрязнение, остановили с десяток доменных печей.
Цены на металлолом, железную руду и заготовку в Китае и других азиатских странах действительно понизились. Но на торгах Шанхайской фьючерсной биржи 12 марта котировки на прокат вдруг подскочили и вернулись на прежний уровень. Просто все объявленные ограничительные меры — это завтра-послезавтра, а видимый спрос на стальную продукцию растет сейчас. По данным местных источников, начали уменьшаться складские запасы как листового проката, так и арматуры.
Так что, скорее всего, рост в Азии возобновится. Вероятно, то же самое произойдет и в Турции, где на прошлой неделе тоже произошло торможение. Местная валюта ослабела по отношению к доллару, строительный сектор после оживления в феврале утих, экспортная конъюнктура не слишком благоприятная. Поэтому в стране слегка подешевел металлолом, а российские экспортеры были вынуждены отказаться от нового повышения котировок на заготовку.
Однако в США и Европе металлолом в марте существенно подорожал, так что турецким металлургам вряд ли удастся сбить цены на него еще сильнее. Скорее, наоборот, больше шансов на то, что в новых сделках стоимость сырья немного прибавит. А значит, не станут дешеветь, как минимум, и российские полуфабрикаты.
Рост цен за рубежом тянет вверх отечественный рынок. Арматура некоторое время держалась ниже отметки 50 тыс. руб. за т с НДС, но сейчас она уже снова выше этого рубежа. Впрочем, о возвращении котировок к январским 60-65 тыс. руб. за т речи не идет. А вот горячекатаный прокат в апреле вполне может дойти до рекордных 70 тыс. руб. за т и на них не остановиться.
На этом уровне повышение цен на металл и другие ресурсы — неприятная, но частность. Рынку придется приспособиться к тому, что арматура может стоить дороже 50 тыс. руб. за т, а горячекатаный прокат или сварная труба — больше 70 тыс. руб. за т. Собственно, так или иначе он уже к этому приспосабливается. Нынешний ценовой кризис как и все, что были до или будут после него, убивает слабых и недостаточно приспособленных, но делает сильных еще сильнее.
В конце концов, России давно пора становиться богатой промышленной страной с высокими ценами, но и высокими доходами. И на этот курс мы, кажется, пробуем встать.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Экономика — большая и очень инерционная система, процессы в которой происходят достаточно медленно. Но если она уж двинулась в каком-то направлении, новые изменения в ней потребуют значительных усилий.
Сейчас на мировом рынке стали мы наблюдаем как раз начало некоторых новых тенденций, которые, возможно, будут определять пути его развития на ближайшие месяцы и даже годы. Во-первых, стартовавший в прошлом году подъем цен на стальную продукцию приобретает черты долгосрочного. Во-вторых, идея «обезуглероживания» прочно завладела широкими массами и в ближайшее время будет оказывать все большее влияние на развитие металлургической промышленности.
Причины подъема цен уже рассматривались в наших публикациях. Коротко говоря, ситуация здесь укладывается в традиционную формулу: «Всего на всех не хватит, потому что всех много, а всего — мало». Потребление стальной продукции растет по ряду причин, основной из которых является решение проблемы падающего платежеспособного спроса посредством эмиссионной денежной накачки. В то же время, выпуск стальной продукции не может увеличиваться так быстро, а на закрытых рынках наподобие США и Евросоюза дефицит усугубляется импортными ограничениями.
К этому сложно что-то добавить, за исключением одного аспекта. Судя по всему, мировая металлургическая промышленность столкнулась с долгосрочной нехваткой сырья. Так, глобальная железорудная отрасль так и не смогла в полной мере компенсировать сокращение производства ЖРС в Бразилии.
В 2020 г. местная корпорация Vale произвела всего лишь 300,4 млн. т данной продукции против 385 млн. т в 2018 г., а на текущий год прогнозирует рост только до 325-335 млн. т. Перевести все свои ГОКи на сухое складирование отходов обогащения, что даст возвращение в строй закрытых ранее мощностей и увеличение выпуска до более 380 млн. т, компания планирует только в 2022 г. До этого времени руда, скорее всего, останется в дефиците, а ее стоимость будет превышать $100 за т.
С металлоломом получается все еще печальнее. Металлургические комбинаты, где в качестве сырья используется железная руда, сейчас не в моде. Их строят в Индии, Китае, странах Юго-Восточной Азии (часто с китайскими инвестициями), но в остальном мире при создании новых металлургических мощностей делают однозначную ставку на металлолом при небольшой доле горячебрикетированного железа.
В результате спрос на металлолом растет, а вот поставки его — не очень. Металлофонд — вещь достаточно инертная, а устроить его ускоренное обновление посредством широкомасштабной модернизации основных фондов могут сегодня в мире только китайцы. Причем им-то как раз лома не хватает, и они завозят его из-за рубежа в растущих объемах.
Безусловно, мировой рынок стали всегда обладает волатильностью и непостоянством, ценовые колебания на нем были, есть и будут. Но, по крайней мере, пока в глобальной экономике не произойдет новых больших перемен, общая тенденция будет направлена вверх. В западных странах уже вовсю идет размещение заказов на прокат с поставкой в третьем квартале, и о понижении котировок никто не заикается. Более того, ArcelorMittal выставляет новые предложения по горячекатаному прокату уже на уровне 800 евро за т EXW за базу.
Очевидно, от этого повышения не уйти и российскому рынку. В марте отечественные металлурги, судя по их текущим котировкам, не настаивают на серьезном подорожании, но в апреле заводские цены, скорее всего, опять возрастут. Причем это затронет не только листовой прокат, но и арматуру. Недолго ей придется побыть ниже отметки 50 тыс. руб. за т…
Значительные изменения могут произойти в ближайшее время в Китае, где состоялась двойная сессия Всекитайского собрания народных представителей и Народной политической консультативной конференции. Помимо всего прочего, там затрагивался и вопрос о снижении выбросов углекислого газа. Ставится задача достичь пика не позднее 2030 г., а к 2050 г. Китай должен полностью покончить с этим вредным явлением.
Вообще-то, борьба с глобальным потеплением — вещь до крайности темная и противоречивая. Земной климат вообще не отличается постоянством и меняется в весьма широких пределах под влиянием чисто космических факторов наподобие колебаний солнечной светимости и угла наклона земной оси. И надо ли с такой фанатичной безоглядностью перечеркивать все плоды столетней индустриализации, — большой вопрос. Тем более, что за «климатической религией» отчетливо прослеживаются чьи-то конкретные финансовые интересы.
Кстати, повышение содержания углекислого газа в атмосфере — это не обязательно плохо. От этого, например, однозначно выигрывает растительный мир. Есть исследования, увязывающие рост мировой урожайности в последние десятилетия с увеличением углеродной подкормки. Так что, глобальное потепление по-своему способствует повышению глобальной продовольственной безопасности.
Впрочем, в западных странах вопрос о борьбе с выбросами углекислого газа давно уже не дискутируется. Это директива, которая подлежит выполнению, причем, не менее чем во всем мире. В последнее время усиливается давление международных институтов на угольную энергетику, а вопрос об «углеродных» таможенных тарифов как раз 5 марта был впервые вынесен на рассмотрение ВТО, где создана специальная инициативная группа.
Очень много говорится о будущем триумфе «водородной металлургии», а количество проектов в этой сфере, анонсированных в различных странах, кажется, перевалило уже за два десятка. Хотя при этом все специалисты указывают, что их реализация будет возможна только при условии крупных государственных дотаций и при наличии надежных источников дешевого «зеленого» водорода, который пока что, как минимум, в шесть раз дороже природного газа.
Запуск первых мощностей по получению восстановленного железа с использованием водорода намечается, вроде бы, на середину текущего десятилетия, но, например, австралийская компания BlueScope Steel, недавно решившая вместо этого потратить деньги на модернизацию доменной печи, прогнозирует появление водородной инфраструктуры не ранее 40-х гг.
В то же время, в Китае, насколько можно понять, пока что идет речь о выбросах не углекислого газа, а куда более вредных веществ — пыли, окисей серы и азота. По данным правительства КНР, к концу 2020 г. радикальную экологическую трансформацию, направленную на минимизацию уровня загрязнения окружающей среды, прошли либо проходят в настоящее время мощности по выплавке 620 млн. т стали в год, а еще 530 млн. т должны быть модернизированы в ближайшие пять лет.
На двойной сессии не было дано однозначной информации о дальнейшем развитии жилищного и инфраструктурного строительства в КНР. Но Министерство промышленности и информационных технологий оценивает на текущий год национальное потребление стали в 1,1 млрд. т. При этом впервые было сказано, что с целью снижения выбросов и уменьшения ценового уровня правительство Китая поддерживает расширение импорта стальной продукции, а особенно, полуфабрикатов.
Таким образом, Китай, в прошлом году закупивший за рубежом 18,3 млн. т заготовки, может сохранить и даже увеличить эти объемы. Если это действительно произойдет, китайский импорт станет еще одним фактором, который будет способствовать повышению цен на стальную продукцию и металлолом на мировом рынке.
А поскольку прокат будет дорожать за рубежом, очевидно, точно такие же процессы будут развиваться и у нас. Единственное, что могло бы замедлить ценовой рост, — это укрепление рубля, но на него надеяться крайне трудно. Участники российского валютного рынка — народ донельзя нервный и пугливый. Так, очередное заявление американской администрации о возможности новых санкций против России вызвало паническое проседание курса, а новый скачок цен на нефть, превысивших $68 за баррель, был практически проигнорирован.
Остается только рассчитывать на то, что российская экономика все же растет, весной повысится активность в строительной отрасли, а инвестиции государства и крупных частных и государственных корпораций смогут компенсировать рост затрат на подорожавшую металлопродукцию. В конце концов, уж очень больших колебаний на российском рынке проката не ожидается, а эффект неприятной неожиданности должен постепенно пройти.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Цены на мировом рынке стали снова растут. И будут расти – по крайней мере, в ближайшем будущем. Как говорится, так легли сейчас карты.
Соответственно, российским металлотрейдерам тоже рано или поздно придется переходить к повышению спотовых котировок, потому что более благоприятных условий от металлургов они, скорее всего, не дождутся. В марте – уж точно. Насчет апреля какие-то варианты, в принципе, есть, но тоже вряд ли.
Стальную продукцию сейчас одновременно толкают вверх Китай и западные страны. В Китае этот рост имеет объективный характер. После завершения новогодних праздников (11-17 февраля) котировки на арматуру и горячекатаный прокат поднялись более чем на $45 за т под влиянием нескольких факторов.
Прежде всего, китайские поставщики стальной продукции уверены, что видимый спрос на нее в ближайшее время не упадет, а наоборот, будет и дальше расширяться. Начало весны – это еще и начало сезонного подъема в китайской строительной отрасли.
Многочисленные проекты, стартовавшие в прошлом году в рамках государственной программы стимулирования экономики, сейчас как раз входят в интенсивную фазу. Может быть, новых строек в этом году будет меньше, но об этом у металлургов будет болеть голова через год, не раньше. А сейчас рынок, судя по впечатлениям его участников, готов взять все, что ему предлагают, и немножко больше.
Не зря китайские компании приобретают за рубежом заготовку и металлолом по ценам, которые немного превышают текущий рыночный уровень в КНР. Значит, рассчитывают на то, что через месяц-полтора, когда заказанная продукция поступит в порты, котировки будут еще выше.
В последние недели в Китае производится очень много стали и проката. По данным национальной металлургической ассоциации CISA, в период с 11 по 20 февраля, то есть, во время праздников, входящие в нее крупные и средние компании выплавляли, в среднем, 2,282 млн. т стали в сутки. Это на 24(!)% больше, чем в тот же период прошлого года.
Конечно, здесь надо учитывать, что в середине февраля 2020-го в Китае как раз началась эпидемия коронавируса, с которой власти страны боролись методом самых жестких карантинных ограничений. Меткомбинатов это, правда, практически не коснулось, но из мини-заводов простаивали порядка 75-80%. И все равно, рост на 24% — это очень много. Под его влиянием в Китае снова подскочили цены на сырье. Железная руда, в частности, превысила $175 за т CFR. А некоторые эксперты в Китае и западных странах не исключает, что на пике она дойдет до $200 за т.
Еще один небольшой, но тоже значимый фактор – появившиеся еще в январе слухи о том, что китайское правительство снизит уровень возврата НДС экспортерам проката. Сейчас они получают обратно все 13%, но, возможно, этот показатель снизится до 8 или 9%. А это означает повышение экспортных котировок, по меньшей мере, на $20-40 за т.
В то же время, сам по себе Китай не смог бы разогнать мировой рынок до сверхвысоких величин. Сегодня стоимость горячекатаного проката на Шанхайской фьючерсной бирже составляет немногим более 4800 юаней или $750 за т с НДС. И это, кстати, рекордное значение за последние 12 лет. Да, если китайская экономика в ближайшие месяцы покажет класс… то есть, рост, а железная руда действительно достигнет $200 за т, стальная продукция в Китае может дойти и до $800 за т с НДС. Может быть. А может, нынешние рекордные объемы производства окажутся избыточными, и во второй половине марта котировки покатятся вниз. Такое тоже неоднократно бывало на китайском рынке.
Китай как крупный импортер заготовки и растущий покупатель металлолома оказывает сильное влияние на эти рынки. Но создавая спрос, он одновременно и устанавливает ценовой потолок. Для заготовки в странах Восточной Азии он ориентировочно составит немногим более $600 за т CFR – при условии, что железная руда, металлолом и прокат в ближайшие несколько недель продолжат рост.
Чтобы довести котировки на листовой прокат до нынешних высот — $800 за т EXW в Турции, 710-740 евро за т в Евросоюзе и невероятные $1335 за т в США, нужны другие условия. Они создались в западных странах.
Следует отметить, что рынки Евросоюза и США – не нормальные. На них больше не действуют традиционные законы спроса и предложения. Во-первых, прошлогоднее увеличение спроса не сопровождается там расширением предложения. По имеющейся информации ассоциации Worldsteel, которая с текущего года перевела свою традиционно открытую статистику на сильно платную основу и, кажется, начала мухлевать с данными, в январе 2021 г. в США было выплавлено стали на 9,9% меньше, чем в том же месяце прошлого года, а в ЕС-27 – на 0,4%. Несмотря на рекордно высокие цены и объявления о вводе или возвращении в строй новых мощностей западные металлургические компании не могут – или же не хотят – удовлетворять потребительский спрос, ФАС на них нет!
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

В первой половине февраля высокие цены на стальную продукцию продолжали оставаться в центре внимания Государственной Думы, правительства, деловых кругов. Недовольство по этому поводу уже давно и громко высказывают строители, которые хотят за счет увеличения затрат на металл подвести базу под дальнейшее подорожание жилья, прогнозируемое в текущем году. К ним присоединились машиностроители, а на прошлой неделе с возмущенным письмом в Минэнерго обратился Совет производителей энергии (СПЭ), объединяющий крупнейшие энергокомпании РФ.
Спад на мировом рынке, проявившийся во второй половине февраля, к настоящему времени подошел к концу. Котировки на стальную продукцию разворачиваются в сторону повышения. Новый курс при этом проложил Китай, весьма мощно проведший последние дни перед Новым годом по местному календарю (12 февраля).
Китайские компании не только прекратили экспортные продажи по низким ценам, но и подняли внутренние котировки на стальную продукцию и железную руду. При этом ожидается, что после праздников все будет стоить еще дороже. Предполагается, в частности, что ЖРС опять может возрасти до более $170 за т CFR Китай, а китайский горячекатаный прокат подойдет к отметке $700 за т FOB или превысит ее.
Кроме того, китайцы проявляют интерес к импорту металлолома, а это наверняка будет способствовать подорожанию данного ресурса в странах Азии. В Японии, где лом во второй половине января просто обвалился, а в первых числах февраля опустился на дно, уже произошел отскок. А в западной части гигантского материка Евразия точно такой же кульбит совершил и турецкий рынок металлолома. Там уже пошли вверх котировки на стальную продукцию, так что и российские металлурги могут смотреть в будущее с большим оптимизмом, чем ранее.
Все это, безусловно, скажется и на состоянии внутреннего рынка. Наметившееся снижение заводских котировок на арматуру может приостановиться несмотря на прогрессирующее удешевление металлолома после ввода в действие повышенных экспортных пошлин с 31 января. С горячекатаным прокатом вообще все становится неясным. Причем спотовые цены в последние недели понижались под влиянием объективных факторов — слабого видимого спроса с одной стороны и наметившейся нехватки оборотных средств у металлотрейдеров, с другой.
Таким образом, сложно рассчитывать на то, что стальная продукция в России в обозримом будущем заметно подешевеет. Для этого нет пока условий. Стоимость железной руды так и останется высокой, а обеспечить российских металлургов дешевым и доступным металлоломом не реально — здесь не поможет даже введение полного запрета на его экспорт. На мировом рынке котировки на стальную продукцию тоже не торопятся падать. Правда, есть основания надеяться на понижающую коррекцию во втором квартале, но… когда это будет? Тут еще до марта дожить надо!..
О курсе рубля вообще ничего не хочется говорить, потому что хорошего о нем не скажешь. Его отвязка от нефтяных котировок, как оказалось, работает в обе стороны — как во время спада, так и при подъеме до более $60 за баррель. А вот пугливая реакция московской валютной биржи на любой чих из-за бугра — это проблема, которая в нынешних политических и экономических координатах не решается.
Впрочем, новый виток конфронтации с Западом теоретически открывает возможность меньше обращать внимание на устанавливаемые им в одностороннем порядке правила. В первую очередь, это относится к климатической политике. То, что самая холодная за последние несколько лет зима 2020/2021 гг. в очередной раз продемонстрировала неспособность «климатически правильной» альтернативной энергетики ветра и солнца обеспечивать потребности экономики и населения во время погодных экстремумов, ничего не доказало и ничего не изменило.
В Европарламенте обсуждают необходимость введения углеродных тарифов, чтобы дешевый импорт не подрывал позиции местного бизнеса, вынужденного тратить огромные средства на покупку более дорогой «зеленой» энергии и внедрение «безуглеродных» технологий. В Китае, где нынешняя зима тоже выявила ряд проблем с энергообеспечением, зашла речь о переводе металлургической промышленности на «безуглеродные» технологии.
Между прочим, этот вопрос совсем не праздный. Некое НГО, в частности, посчитало, что только для снижения «углеродного следа» китайской алюминиевой промышленности нужно закрыть 47 ГВт мощностей каптивных угольных электростанций на алюминиевых комбинатах и заменить их чем-то новым, а это, между прочим, больше, чем совокупная установленная мощность всех российских АЭС. В Европе переход металлургии на водородные технологии приведет к увеличению затрат на выплавку стали на 35-65% даже при условии, что сам водород в процессе с какой-то радости подешевеет в 4-6 раз по сравнению с нынешними показателями.
Россия, в отличие от Китая, не брала на себя никаких обязательств по «обезуглероживанию» энергетики и экономики, однако вопрос о проведении собственной климатической политики уже ставится на уровне президента и правительства. Конечно, можно сказать, что мы сами должны считать наши углеродные выбросы, чтобы за нас это не сделали другие и не установили нам показатели «по аналогии», как это делается при антидемпинговых расследованиях. Однако российские компании, работающие на западных рынках, постепенно вынуждены принимать тамошние правила и направлять все больше средств на борьбу с глобальным потеплением, хотя никто еще не доказал, что оно, во-первых, есть, а во-вторых, вызвано именно хозяйственной деятельностью человека, а не природными процессами.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Китайские компании, устроившие в конце января большую распродажу излишков, изрядно расшатали рынок, предлагая горячекатаный прокат по $600-660 за т FOB и катанку по $590-650 за т FOB, тогда как котировки на аналогичную продукцию производства СНГ в начале этого безобразия составляли соответственно $750-760 и $720-750 за т FOB.
Сейчас цены упали по всему рынку. Подешевел прокат в Юго-Восточной Азии и Турции, некоторое ослабление происходит и в странах Евросоюза. Меткомбинаты из России и Индии были вынуждены пересмотреть экспортные котировки в сторону понижения.
Но основные события происходили в секторе сортового проката. Прежде всего, подешевел металлолом. Турецкие металлургические заводы, которые в начале января приобретали это сырье по $475-480 за т CFR, теперь стремятся сбросить цены до менее $400 за т и имеют на это хорошие шансы. В Азии американский и японский лом, еще недавно достигавший $460-500 за т CFR, обвалился до $370-390 за т.
Согласно впечатлениям аналитиков, происходит откат на уровень начала декабря прошлого года. И знаете, для российского рынка это хорошо. Вступившие, наконец, в силу экспортные пошлины на металлолом в нынешних условиях практически приостанавливают внешние поставки. Внутри страны лом уже пошел вниз и, очевидно, продолжит дешеветь в ближайшие несколько недель, как минимум.
Постепенно спускается с прежних высот и немилосердно задранная вверх арматура. Производители сбавили февральские котировки до 60 тыс. руб. за т CPT по сравнению с около 63-65 тыс. руб. за т в январе. И это еще не финиш: как говорится, процесс пошел. По некоторым данным, отдельные компании готовы и на более серьезные уступки, а значение экспортного паритета уже составляет менее 50 тыс. руб. за т с НДС. С этим уже можно жить!
Листовой прокат пока подешевел на мировом рынке в гораздо меньшей степени. В этом секторе реально наблюдался и сохраняется до сих пор дефицит предложения. Европейские и турецкие металлургические компании обеспечены заказами до апреля включительно. Им нет никакого резона сильно сбрасывать цены даже при резком сокращении количества новых сделок.
Вопросов и неясностей очень много. Например, был ли вызван недавний спад в Китае только краткосрочными факторами (похолодание и вспышка коронавируса в ряде городов промышленного северо-востока) или он все-таки имеет системный характер? Ряд представителей правительства КНР и национальной металлургической ассоциации CISA в последнее время заявляли о необходимости сокращения объемов выплавки стали, превысивших в прошлом году 1,05 млрд. т. Западные эксперты считают, что в текущем году китайские власти снизят уровень поддержки национальной экономики, что приведет к прекращению роста потребления стальной продукции.
Отдельный вопрос связан с сырьевым обеспечением китайской металлургической промышленности. Власти заявляют, что хотели бы уменьшить очень высокую зависимость от импорта железной руды. Кроме того, Китай взял курс на борьбу с выбросами углекислого газа, а для этого надо снижать загрузку меткомбинатов. В последнее время на высоких уровнях сообщалось, что правительство будет способствовать увеличению потребления металлолома и стимулировать его импорт. Говорилось и о том, что китайские компании могут возобновить импорт заготовки.
Между тем, в 2020 г. Китай импортировал 18,3 млн. т полуфабрикатов, в основном, именно длинномерных. И эти закупки стали важнейшим фактором, определившим структуру азиатского рынка стали в прошлом году. Так, в 2020 г. Вьетнам экспортировал в Китай 3,54 млн. т стали, главным образом, товарной заготовки. Вследствие этого вьетнамские металлургические компании закупили за рубежом в прошлом году рекордные объемы металлолома, что стало одной из основных причин его подорожания в конце прошлого года.
В текущем году Китай заготовку не покупал, а экспортировал. Вьетнамцы резко снизили импорт лома, который обвалился в Азии на 15-20% по сравнению с первой половиной января. Однако теперь Китай сам может стать импортером лома. В правительстве называли желаемые объемы его потребления национальными металлургическими компаниями — 300 млн. т в год. А реально в прошлом году было использовано что-то около 220-240 млн. т. Откуда брать недостающее?! Между прочим, весь оборот восточноазиатского рынка — менее 40 млн. т в год.
Еще один вопрос касается железной руды. В первой половине января ее стоимость в Китае была очень высокой — около $170 за т. В начале февраля она опустилась до около $150 за т. Но это все равно много. По данным S&P Global Platts, в январе операционная рентабельность китайских меткомбинатов была отрицательной. При этом предложение руды на мировом рынке ограничено, и эта проблема, скорее всего, не будет решена в ближайшие месяцы. И вопрос: будут ли китайские компании сокращать производство из-за слишком дорогостоящего сырья или, наоборот, поднимут цены на прокат, если в экономике страны после Нового года все-таки начнется подъем?
Скорее всего, какое-то оживление все-таки будет. В начале марта пройдет очередная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), а ее обычно принято встречать благополучными экономическими показателями. К тому же, в 2021 г. в Китае стартует новая Пятилетка, а значит, правительство будет провозглашать какие-то планы на будущее.
Так что, велика вероятность, что во второй половине февраля цены на прокат в Китае поднимутся, а вот надолго или нет, сказать сложно. Впрочем, вероятность нового взлета, наверное, невелика, а падения в марте — еще меньше. Во всяком случае, коронавирус на данный момент в КНР снова удалось побороть. По состоянию на 2 февраля количество новых случаев упало до 25 (двадцати пяти) на всю страну.
Как представляется, регулировать кругооборот металла в Азии будет уровень цен. При этом примем в качестве примерной константы железную руду и предположим, что она на ближайшее время останется в интервале $130-170 за т CFR Китай. Средняя стоимость товарной заготовки в Китае в последние месяцы — что-то около $500-530 за т без НДС. Значит, чтобы китайцы покупали ее за рубежом, им надо продавать ее примерно на $20-30 за т дешевле. Металлолом при таких раскладах должен опуститься где-то до $280-320 за т CFR. Все это, кстати, соответствует уровню осени прошлого года, до начала ценового скачка. Но лом все еще в дефиците, особенно, если китайцы будут его импортировать. Поэтому он, скорее всего, будет стоить дороже, а заготовка — превышать $500 за т FOB. При таких раскладах рассчитывать на китайский импорт полуфабрикатов сложно. Спрос на заготовку на международном рынке будет тогда относительно низким, а ее стоимость будет определяться, прежде всего, текущими колебаниями металлолома.
Более сложная картина с листовым прокатом. В Европе участники рынка в целом ожидают понижения цен на листовой прокат во втором квартале. Но здесь очень важную роль будут играть импортные квоты. Одно дело, если Европейская комиссия продлит их действие. Другое — если она, как предполагалось, отменит их 30 июня. И третье, если квоты снимут, но зато введут новые антидемпинговые пошлины на важнейшие виды стальной продукции и повысят старые. Кстати, этот третий вариант пока выглядит наиболее вероятным.
В то же время, в США ситуация иная. Там-то как раз заболеваемость коронавирусом в последнее время существенно снизилась. Власти обещают пресловутые $1,9 трлн. на поддержку экономики. Улучшение обстановки в США сыграло немалую роль в том, что возобновился рост цен на нефть, причем стоимость сорта «брент» вплотную подошла к отметке $60 за баррель. В последние дни на американском рынке снова начал дорожать листовой прокат, который, вроде бы, должен был уже перевалить через свой пик.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

В последнюю неделю января обстановка на мировом и российском рынке стали в целом успокоилась, если не достигнув равновесия, то, по крайней мере, прояснившись на данный момент.
В западных странах, которые в прошлом году били рекорды по темпам роста цен на прокат, появились негативные тенденции. Массовая вакцинация там проваливается, в ряде государств опять усилены карантинные ограничения. Экономика, не успев толком восстановиться после прошлогодних испытаний, снова уходит на спад. Экспертам приходится пересматривать в сторону понижения прогнозы на текущий год.
Одновременно там постепенно улучшается ситуация с предложением стальной продукции. В Евросоюзе производство стали в декабре выросло на 10,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Американские металлурги, правда, по-прежнему сильно отстают от прошлогоднего графика, но зато в США, наконец, начал поступать дополнительный импорт. Просто цены там настолько поднялись, что окупают даже уплату 25%-ных стальных тарифов.
Сигнал же к повороту дал Китай. Сильное похолодание в декабре и первой половине января, сопровождаемое перебоями с поставками электроэнергии, сузило внутренний спрос на стальную продукцию, а вспышки коронавируса в ряде городов на северо-востоке страны довершили дело. Если ранее китайский рынок вбирал все, что производили местные компании, и требовал еще, то в середине января у металлургов и трейдеров появились излишки.
Перед Новым годом по местному календарю (12 февраля) многие китайские компании нуждались в наличных средствах. Они и получили их, отправляя стальную продукцию за рубеж по бросовым ценам — порядка $620-640 за т FOB для горячекатаного проката и еще меньше для арматуры и катанки. Понято, что эта дешевая распродажа скоро прекратится, но свое дело она уже сделала.
Переход китайских компаний к достаточно широкомасштабному экспорту по сравнительно низким ценам привел к падению цен на металлолом в Турции и странах Восточной Азии, что потянуло вниз котировки на прокат. Очевидно, этот спад не будет значительным. Все-таки металлургические компании в разных странах обеспечены заказами на два-три месяца вперед, так что сильно сбрасывать цены у них пока нет необходимости. Но возвращения на уровень начала января, скорее всего, уже не произойдет.
В силу этих причин стоимость проката на российском спотовом рынке тоже снижается и, наверное, понизится еще немного, а заводские цены дойдут до максимальной отметки в феврале, после чего тоже повернут вниз. Арматура, возможно, опустится ближе к экспортному паритету, который сейчас немного превышает 50 тыс. руб. за т с НДС, но на существенное удешевление листового проката рассчитывать пока сложно. Ему могло бы помочь укрепление рубля, но текущее состояние валютного рынка не дает особых поводов для оптимизма.
Точкой отчета для новых изменений должен стать Новый год по китайскому календарю. Но пока рынок движется курсом на понижение.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

О причинах повышения цен на прокат в России говорилось уже очень много, и здесь трудно добавить что-то новое. Этот подъем пришел на наш рынок из-за рубежа, где основными факторами стали усиленный спрос, превратившийся к концу прошлого года в ажиотажный, и недостаточные (в силу различных причин) объемы предложения.
Резкое и продолжительное повышение цен на металлопрокат дезорганизует спотовый рынок. Как отмечалось на состоявшемся 21 января заседании Совета Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), главная опасность здесь заключается в наступающем дефиците оборотных средств у дистрибьюторов.
Банки не захотят и не будут помогать своим клиентам, увеличивая для них лимиты и предоставляя новые кредитные линии. Скорее наоборот, видя наступление сложных времен, они будут еще сильнее зажимать гайки. Это может привести к тому, что у металлотрейдеров возникнут проблемы с новыми закупками проката, а весной, когда пойдет в рост видимый спрос, на российском рынке может появиться дефицит металла.
В начале второй половины января цены на арматуру и заготовку на мировом рынке пошли вниз под влиянием как сузившегося спроса после ажиотажа в конце прошлого года, так и удешевления металлолома. В Турции, например, лом за прошедшую неделю понизился на $25-30 за т, а в дальнейшем ожидается еще более сильный спад. Скорее всего, в феврале уменьшится стоимость этого сырья в Европе и Северной Америке. Правда, сильно металлолом, скорее всего, не упадет вследствие прихода на этот рынок китайских компаний и вступления в силу российских экспортных пошлин. Но экспортный паритет для арматуры в России уже упал до немногим более 50 тыс. руб. за т с НДС и будет снижаться дальше.
Менее определенной выглядит обстановка на рынке листового проката. Экспортные котировки на российскую продукцию там тоже уменьшаются, но основной причиной этого является распродажа, устроенная китайскими компаниями перед их Новым годом (12 февраля). Предполагается, что, максимум, через две недели она закончится.
Правда, цены на стальную продукцию и после праздников, очевидно, останутся там заметно ниже мировых. В конце прошлого года это ощущалось слабо, потому что разогретый китайский рынок поглощал все, что могли произвести местные металлурги, и просил добавки. В январе на нем возникли излишки, и это ощутили на себе все. Что, интересно, принесет февраль? Ответ пока неопределенный — а кто его знает?!
В то же время, под влиянием Китая затормозился рост цен на листовой прокат в Евросоюзе и США. Местные рынки постепенно насыщаются, производство в этих регионах растет, так что условия для понижательной коррекции вполне сложились. Кроме того, в западных странах есть проблемы с коронавирусом. Заболеваемость высокая, а раскрученная вакцина от BioNTech/Pfizer как бы и не совсем хорошая. Поэтому прежние оптимистичные прогнозы об ускорении экономического роста там сменились глубокой задумчивостью.
На нашем российском рынке в марте также ожидается понижение цен на прокат. По крайней мере, вероятность этого велика. Подгадить здесь могут, главным образом, американцы, причем двояко. Во-первых, они могут разогнать печатный станок, что будет способствовать повышению долларовых цен на все ресурсы. Однако реализация этого варианта требует времени, а пакет на $1,9 трлн., который обсуждается еще с прошлого года, уже давно воспринят рынком и включен во все расчеты.
Во-вторых, США могут досадить конкретно России новыми санкциями, на которые в наших финансовых кругах почему-то всегда реагируют очень нервно и снижают от страха курс рубля. Казалось бы, давно пора привыкнуть, что идет очередная холодная война, враг не стесняется в средствах, но основные его усилия сосредоточены в информационном пространстве. Тяжело было в 2014 г. сниматься с кредитной иглы, это да, а сейчас российская реальная экономика стала менее уязвимой.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»
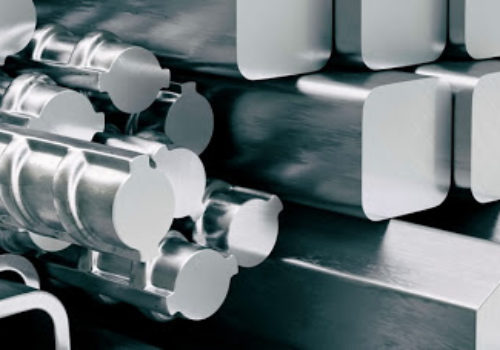
После непродолжительного отдыха работа начинается с места в карьер. Да и мир не стоит на месте. Обстановка постоянно меняется, в ней снова возникают неопределенности. На этой неделе ожидаются важные события, которые могут дать старт новым тенденциям.
В США 20 января в Белый дом должен официально придти новый президент. Правда, местные СМИ при всей своей ангажированности пока не показывают картины торжествующих победителей, но если в среду удастся провернуть всю процедуру без сучка и задоринки, политика немного сдвинется в сторону второго плана, а на первый выйдет экономика.
В первой половине января внутренние котировки на горячекатаный прокат в США прибавили порядка $100 за т и вплотную подошли к рекордным показателям середины 2008 г. На европейском рынке рост также возобновился после праздничной паузы. Как считают местные специалисты, рано или поздно спрос и предложение сбалансируются за счет завершения процесса восстановления складских запасов, увеличения производства и импорта стальной продукции. Но в качестве самого раннего срока называются апрельские продажи с поставкой в июне-июле.
После каникул российские металлургические компании продолжили повышение экспортных котировок, которое сопровождается дальнейшим подорожанием стальной продукции на внутреннем рынке. Горячекатаный прокат по 67 тыс. руб. за т CPT, арматура по 63 тыс. руб. за т становятся объективной реальностью, отражающей реальные международные тенденции. А ведь мировой рынок еще не достиг пределов своего роста. И с учетом того, что в западных странах продолжают заваливать экономику деньгами, не известно, когда это прекратится.
Вообще, Китай на прошлой неделе усложнил обстановку на мировом рынке стали. В стране несколько ухудшилась рыночная конъюнктура вследствие сильного похолодания в северо-восточных провинциях, ковида, трудностей в энергоснабжении. Однако ситуация пока не катастрофичная. Тем не менее, китайские компании начали выходить на внешние рынки, предлагая катанку по $650 за т FOB и горячекатаный прокат по $680-700 за т FOB. Для сравнения, поставщики из СНГ стремятся довести котировки на эти виды стальной продукции соответственно до $750 и $780 за т FOB.
Дешевый китайский прокат уже появился на рынках Восточной Азии, Латинской Америки и даже Турции. Так что, если эта тенденция получит продолжение, стоимость отечественной продукции за рубежом понизится. Впрочем, 15 января котировки на Шанхайской фьючерсной бирже снова поднялись, оборвав спад. Предсказывать тут что-то трудно, надо просто проследить за тем, в какую сторону повернет китайский рынок на этой неделе.
мена знака может произойти и с металлоломом. В последние дни турецкие металлурги добились понижения цен на этот ресурс. В странах Восточной Азии котировки уперлись в потолок вследствие неясного положения в Китае и прекращения подъема на региональном рынке арматуры. Это начинает оказывать давление на стоимость заготовки, которая к настоящему времени превысила $600 за т FOB. Впрочем, если она подешевеет, в России может опуститься арматура, которая сейчас предлагается заводами гораздо выше экспортного паритета.
Но делать далеко идущие выводы и здесь рано. Металлолом в Турции подешевел, в основном, из-за того, что местные компании обеспечили свои февральские потребности и часть мартовских и просто стали его меньше покупать. Между тем, в США и Европе январские котировки на лом превысили уровень предыдущего месяца соответственно, в среднем, на $100 и 50 евро за т. А в феврале он может снова подорожать за счет низкого ломосбора и продолжающегося роста цен на стальную продукцию. Да и у нас у тому времени вступят в силу повышенные экспортные пошлины на данное сырье.
Таким образом, существенного понижения цен на российскую стальную продукцию за рубежом в обозримом будущем скорее всего, не произойдет. А значит, нет особых оснований рассчитывать на удешевление проката в России — по крайней мере, в ближайшей перспективе. Западные рынки, похоже, может остановить только хор-роший кризис, Китай — это вещь в себе. Ослабить остроту проблемы, возможно помогло бы солидное, этак на 8-10% укрепление рубля, но он продолжает ослабляться параллельно с валютами западных стран.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Компания «Уралиндуктор» предлагает предлагает весь спектр высокочастотных и сверхвысокочастотных индукционных нагревателей.
- Полный прогрев деталей на заданную температуру для дальнейшей обработки (ковки, штамповки, прессование и тд.)
- Поверхностная закалка на заданную глубину и температуру
- Закалка и термообработка деталей сложной формы
- Бесконтактная плавка, пайка и сварка металла
- Получение опытных образцов сплавов
- Гибка и термообработка деталей
Более детально познакомится с разделом «Высокочастотные индукционные нагреватели» Вы можете посетив страницу Высокочастотные индукционные нагреватели

Новый год — новые надежды, новые события, новые тенденции и… старые проблемы, которые не хотят так просто уходить в прошлое просто по воле календаря.
Чему научил прошедший 2020 г., так это тому, что непредвиденные события могут полностью изменить все расклады и создать совершенно новую реальность. Поэтому любые прогнозы сегодня — дело ненадежное и неблагодарное.
Впрочем, с другой стороны, неприятности масштаба пандемии коронавируса происходят не каждый год. Если мы и в 2021 г. столкнемся с некой неожиданной проблемой сравнимого уровня, значит, мы чего-то не видим или не понимаем в окружающем нас мире.
Если же рассматривать текущую ситуацию в свете уже имеющихся тенденций, можно предположить, что нас ждет очередной не простой и совсем не скучный год, в котором произойдет много чего интересного.
Правда, коронавирус останется с нами и в 2021 г. Вакцинация уже стартовала, но многие уважаемые эксперты считают, что она позволит переломить ситуацию лишь ближе к середине года. Весьма вероятно, что, как минимум, в некоторых странах новый 2022 г. тоже будут встречать в масках и соблюдая социальную дистанцию, а масштаб международных авиаперевозок и заграничного туризма будет бледной тенью докризисных показателей.
Возможно, что в России и других передовых с точки зрения здравоохранения и фармацевтики странах качественное улучшение эпидемиологической ситуации произойдет уже весной, а то и раньше. Однако влияние коронавируса на поведение и потребительские привычки и предпочтения будет чувствоваться еще долго. Не говоря уже о том, что эпидемия представляет собой прекрасный повод для манипулирования информацией и питательную среду для конспирологических теорий и конспироложества.
Влияние продолжающейся эпидемии на экономику будет двояким. Прежде всего, год начинается с локдаунов в ряде стран, что нанесет новый удар по и без того чахлой сфере услуг и потребительскому рынку. Уровень безработицы практически по всему миру заметно превышает показатели 2019 г. Антикризисные программы 2020 г. привели к резкому нарастанию бюджетных дефицитов и государственной задолженности. В экономику ряда стран были вброшены триллионы необеспеченных денег, которые, правда, в основном, пошли на возмещение потерь.
Все это — бомбы, заложенные под мировую экономику. Не факт, что какие-то из них обязательно взорвутся в 2021 г., но все они будут тикать. В текущем году увеличивается вероятность крупных банкротств и дефолтов. При этом новых решений для старых проблем пока не предложено. С экономическими неприятностями будут и дальше бороться, в основном, с помощью «печатного станка».
С другой стороны, печатать деньги в 2021 г. будут много и раздавать их щедро. События заключительных месяцев прошлого года показывают, что заметная часть средств, выделенных в рамках борьбы с последствиями ковида, попала в реальный сектор экономики. А в Китае они туда, собственно, и направлялись. В текущем году и в других странах должны заработать программы стимулирования экономики, предусматривающие государственные инвестиции либо поддержку некоторых секторов. Если все это запустится, спрос на ресурсы действительно возрастет, а повышение цен на них продолжится. Фактически это будет означать ускорение инфляционных процессов в масштабах мировой экономики.
Приход к власти новой администрации в США, возможно, приведет к некоторой либерализации международной торговли, но только между «своими». Ожидания Турции, Ирана, Китая в отношении отмены санкций и ограничений могут и не оправдаться. Отмена стальных тарифов, введенных в США при Трампе, достаточно вероятна, если новым американским властям об этом напомнят, но не обязательна. Хотя, если это произойдет, то и Европейской комиссии будет сложнее продлить еще на три года действие квот на импорт стальной продукции.
Чего можно точно ждать, так это усиления климатической пропаганды и проведения еще более жесткой климатической политики. Население западных стран уже достаточно обработано и больше никаких вопросов на этот счет не задает. Собственно, никого уже не интересует, насколько оправдана борьба с глобальным потеплением и стоит ли она того, чтобы идти ради нее на огромные расходы и серьезные жертвы.
В прошлом году много и часто говорили о водородной металлургии, внедрении решений по улавливанию и захоронению углекислого газа и других климатически правильных вещах. В текущем году придет очередь реального запуска пилотных проектов. Металлургам и вообще промышленникам это сулит только рост затрат и моральное удовлетворение в качестве награды. Впрочем, новой тенденцией 2021 г., скорее всего, станет давление в пользу введения платы за выбросы углекислого газа там, где ее пока нет, и повышение там, где она есть.
Вообще, наше противостояние с западными странами в 2021 г., очевидно, будет только усиливаться. Следует ждать новых санкций, новых провокаций, новых наездов в информационном пространстве. Это надо просто воспринимать как данность. Вменяемых «партнеров» на той стороне больше нет, пытаться договариваться не с кем и не о чем.
В связи с этим возникает вопрос, а не пора бы вообще отгородиться новым «железным занавесом» от становящегося все более безумным западного мира и вместе с дружественными странами приступить к строительству «интернационала здравого смысла», где действуют законы и договоренности, нет идеологического давления, а экономикой управляют правительства а не банки и безликие инвестиционные фонды?! Да и многие международные организации типа МОК, ОЗХО, ВАДА и других уже достаточно продемонстрировали свою предельную заангажированность и бесполезность.
В экономике России 2021 г., по-видимому, пройдет под знаком импортозамещения и закрытия уязвимостей, которых, увы, хватает. По крайней мере, разработка Единого плана по достижению национальных целей и начинающие действовать механизмы по стимулированию и поддержке инвестиций преследуют именно эти цели. В целом стоящие перед страной задачи отличаются грандиозным масштабом, требуют очень качественного управления и продвигаются достаточно медленно. Судя по всему, в нынешним году все эти процессы только будут проходить стартовый этап. Поэтому одним из приоритетов для политического руководства станет, наверное, выигрыш времени.
Еще одной тенденцией текущего года в отечественной экономике будет дальнейшее развитие процессов цифровизации. Россия будет становиться все более информационным обществом. При этом бизнес, платежная и налоговая система будут становиться все более прозрачными.
Для российских металлургических компаний 2021 г. должен ознаменоваться дальнейшим расширением внутреннего рынка, в том числе, в сегменте инфраструктурного строительства, увеличением спроса на специализированную высококачественную продукцию, новыми инвестиционными проектами и модернизациями. Правда, вопрос о соотношении мировых и внутрироссийских цен при сохранении относительно низкого курса рубля останется весьма актуальным и проблемным.
Легко так или иначе не будет. Но зато будет интересно!
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Уважаемые и дорогие коллеги!
От всей души поздравляем Вас с Новым годом!
Спасибо за Ваш выбор и доверие!
Мы уверены, что наше сотрудничество всегда будет плодотворным,
Новый год принесет нам с Вами еще более крепкие деловые отношения.
Желаем Вам стабильности во всех делах,
успехов во всех начинаниях и благополучия в любой сфере жизни.
Здоровья Вам, Вашим родным и близким.
С праздником!
с уважением,
коллектив ООО «МТПК»

Этот год наконец-то подходит к концу. Однако даже завершаясь, он оставляет в наследство наступающему 2021 году ряд проблем.
Для металлургов и потребителей стальной продукции главной из них является, конечно, резкое повышение цен, продолжавшееся до самых праздников. В США и Евросоюзе буквально «на флажке» стоимость горячекатаного проката установила свежие максимальные отметки с 2008 г. — соответственно более $1100 и порядка 660-680 евро за т EXW.
В течение прошедшей недели европейцев практически догнали турецкие компании, а сортовой прокат, который ранее сильно отставал от листового, активно наверстывал упущенное. При этом, судя всему, наступление праздничной паузы не будет означать прекращения роста.
Из всех основных факторов, вызвавших этот подъем в четвертом квартале 2020 г., наиболее сомнительным выглядит экономический рост в западных странах, так как ситуация там сложилась весьма непростая. Правда, и здесь вероятность смены знака с плюса на минус пока не выглядит высокой. Хотя во многих европейских государствах объявлены весьма суровые карантинные мероприятия, до последнего момента это не оказывало никакого влияния на постоянное увеличение стоимости проката.
Металлолом в Турции и Восточной Азии вплотную подошел к отметке $500 за т CFR, а кое-где и перешагнул ее. Причем в январе ожидается новое подорожание, которое будет иметь несколько составляющих.
Прежде всего, это реальная нехватка металлолома. Сбор его заметно уменьшился в 2020 г., а новые карантины и наступившая зима отнюдь не улучшают перспективы. Особенно, в свете ожидаемого повышения экспортных пошлин в России и возвращения Китая на мировой рынок лома в качестве импортера.
Кроме того, верхнюю планку на рынке металлолома устанавливают компании из западных стран. У них есть деньги — реальные или виртуальные кредитные, цены на их продукцию поднялись до самого высокого уровня более чем за двенадцать лет. Поэтому можно не экономить на сырье, тем более, что оно реально нужно.
Железная руда находится вблизи самой высокой отметки за последние без малого десять лет и в ближайшее время тоже, очевидно, существенно не подешевеет. Спрос на это сырье определяет Китай, где экономика через полгода после завершения эпидемии коронавируса находится просто в процветающем состоянии.
В принципе, китайцы, как и западные страны, вбрасывали в экономику деньги, наращивая государственный долг. Но если у американцев и европейцев все средства в конечном итоге стекались в банки и использовались для надувания пузырей на фондовых биржах, то китайское правительство облагодетельствовало, прежде всего, реальный сектор.
Как отмечалось на Central Economic Work Conference (CEWC) в середине декабря, за первые десять месяцев 2020 г. объем эмиссии специальных инфраструктурных облигаций, за счет которых финансируются строительные проекты, составил 3,55 трлн. юаней ($544 млрд.), что на 66,7% превысило показатель всего 2019 г. По данным Argus Media, только в октябре 2020 г. в Китае стартовали более 4,5 тыс. новых проектов с совокупным объемом инвестиций 3,22 трлн. юаней. Не зря, согласно официальным оценкам, потребление стальной продукции в китайском строительном секторе в 2020 г. прибавило 13,4% по сравнению с предыдущим годом или почти 68 млн. т.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

В середине декабря экспортные котировки на российский горячекатаный прокат превысили отметку $700 за т FOB. Вследствие этого металлургические комбинаты снова откорректировали цены на аналогичную продукцию для российских потребителей. Новый ориентир теперь составляет 60-62 тыс. руб. за т CPT по январским контрактам, а в феврале производители ожидают рост еще на 4-5 тыс. руб. за т.
Данное повышение базируется, прежде всего, на том подъеме, что сейчас происходит на мировом рынке. В Турции горячекатаный прокат приблизился к $800 за т EXW, в США преодолел $1000 за т. В Европе от корпорации ArcelorMittal ожидали, что она до Рождества объявит о доведении базовых котировок до 700 евро за т EXW, и она таки это сделала! Отстает только Восточная Азия, но и там цены на российский горячекатаный прокат во Вьетнаме вышли на уровень $700 за т CFR.
Судя по всему, это подорожание продолжится и после Нового года, хотя и не такими высокими темпами. Для этого есть объективные причины. Во-первых, это долларовая инфляция, выражающаяся в росте цен на все ресурсы — от нефти до меди. Во-вторых, ожидания запуска новых стимулирующих антиковидных пакетов, которые будут способствовать увеличению инвестиционного и потребительского спроса. В-третьих, сохраняющийся дефицит сырья — металлолома и железной руды — и увеличение сырьевых затрат металлургов. В-четвертых, недостаточные объемы предложения стальной продукции, ее острая нехватка на спотовом рынке.
По мнению самих металлургов, повышение продлится в январе и феврале. Дальше возможны варианты. Один из них заключается в продолжении заваливания рынков наличностью, что приведет к новому подъему в духе лета 2008 г. Когда денег много, их легко дают всем и не слишком задумываются о будущем возврате, все прейскуранты уходят в небеса.
торой вариант заключается в резком переходе от всеобщего оптимизма к кризису. В ряде стран на праздники анонсированы жесткие карантинные мероприятия, которые могут снова оказать угнетающее влияние на экономику. Вакцинирование практически нигде еще не началось, а когда оно стартует, на первый план неизбежно выйдут негативные побочные эффекты. Закончились или заканчиваются льготные периоды, которые не факт, что будут продлены, обостряются проблемы с задолженностью. Однако для такого поворота вниз нужен «детонатор» — непредвиденное остро неблагоприятное событие, пресловутый «черный лебедь».
Промежуточное положение между этими крайними сценариями занимает инерционный вариант. В соответствии с ним, сразу же после Нового года на мировом рынке стали сохранится дефицит, но постепенно спрос будет покрываться, покупатели сделают паузу, а металлурги, наоборот, увеличат объемы производства. Возможно, к весне улучшится ситуация с поставками сырья, и оно, наконец, начнет дешеветь.
Впрочем, почти что в любом случае стоимость стальной продукции на мировом рынке в ближайшие два-три месяца будет находиться вблизи максимальных отметок за последние 8-12,5 лет. В этом случае следование российских компаний принципу экспортного паритета может привести к появлению ряда серьезных проблем.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Резкое повышение спроса, вызвавшее взлет цен на стальную продукцию по всему миру, как раз и было обусловлено приступом всеобщего оптимизма. Пусть вакцинация еще только начинается, пусть ее реальное воздействие, по мнению специалистов, мир увидит не раньше середины следующего года, но в перспективе эпидемии и вызванным ею ограничениям все равно конец! А приход в вашингтонский Белый Дом этого милого дедушки Байдена, как по волшебству, вернет весь западный мир в старые добрые времена!
Если в 2019 и 2020 гг. запасы, в основном, сокращались, то в последние несколько недель все начали, как сумасшедшие, пополнять резервы. Этот ажиотажный спрос породил дефицит, который еще сильнее раскрутил всеобщий ажиотаж.
По данным итальянской металлоторговой ассоциации Assofermet Acciai, за 2019 и 2020 гг. уровень складских запасов проката в европейской сбытовой сети уменьшился на 19 млн. т. А сейчас участники рынка стремятся вернуть резервы на уровень 2018 г.
При этом в Европе по-прежнему простаивают 10 доменных печей, на которые приходится 17% мощностей региональных меткомбинатов. А восполнить недостающее за счет импорта того же горячекатаного проката нельзя — не дают квоты, которые были не только снижены с июля 2020 г., но и переведены на квартальную основу, да еще и с лимитами для ведущих поставщиков.
Первое из них мы уже назвали — это пополнение складских запасов, боязнь вообще остаться без металла. Но оно опирается на второй фактор — ограниченный объем предложения.
Еще лет 5-10 назад ситуации, подобной той, что сейчас сложилась в Евросоюзе или США, просто не могло бы возникнуть. Дефицит стальной продукции в каком-либо регионе был бы быстро ликвидирован за счет импорта. Однако протекционизм водрузил высокие барьеры между регионами. Российские, например, компании не могут отправить дополнительные объемы проката в ЕС или США, хотя они бы там точно не помешали.
А собственно западные компании осторожничают. Пополнение складских запасов — процесс конечный. Как ожидается, в первом квартале 2021 г. он завершится, после чего видимый спрос упадет. А успеет ли экономика к тому времени перейти на траекторию устойчивого роста, вопрос спорный. Тем более, что, по мнению всех без исключения специалистов, потребление стальной продукции в будущем году в большинстве стран еще не вернется на докризисный уровень 2019 г.
Еще один очень важный аспект — сырьевой. В Турции цены на металлолом впервые с марта 2014 г. достигли отметки $400 за т, что почти в два раза превышает минимальный апрельский уровень и на треть — котировки всего лишь трехмесячной давности. В Восточной Азии этот рубеж, как ожидается, тоже будет превзойден в ближайшее время.
Нехватка металлолома имеет объективный и не устранимый пока характер. Ломосбор сократился из-за карантина и промышленного спада. При этом новые «локдауны», объявленные в ряде европейских стран, наносят рынку новый удар. Не говоря уже о том, что зимой предложение лома и так традиционно снижается по объективным причинам.
Подорожание металлолома облегчается стремительным ростом цен на некоторые виды стальной продукции. Когда в Турции горячекатаный прокат предлагается по $700-730 за т EXW, а в США приближается к $1000 за т, лом «по четыреста» — не проблема. Еще один «горячий» и повсеместно растущий в цене товар — катанка, стоимость которой на рынках Ближнего Востока и Восточной Азии существенно перевалила за $600 за т FOB.
Дефицитный, дорогой и, более того, дорожающий металлолом будет, очевидно, поддерживать цены на стальную продукцию на высоком уровне в ближайшие месяцы. А с другой стороны их будет подпирать железная руда, подскочившая до $160 за т CFR Китай впервые с начала 2013 г.
Итак, спрос со стороны Китая плюс растущее потребление руды в Японии и Евросоюзе, где возвращаются в строй доменные печи, составляет один полюс. На втором находятся поставщики ЖРС, которые в данный момент просто «не тянут». Улучшение в бразильской железорудной отрасли в сентябре оказалось временным. В ноябре экспорт сырья упал до наименьшего показателя за полгода и даже опустился ниже прошлогоднего графика. Австралия остается при своих, но там начинается сезон штормов, которые периодически срывают работу портов.
Таким образом, железная руда по-прежнему останется дорогостоящей. А по мнению Джеффри Карри, главного аналитика по глобальным товарным рынкам в американском инвестиционном банке Goldman Sachs, мир вообще вступает в период подъема цен на все ресурсы. Действительно, в последнее время подорожали все базовые цветные металлы, и даже нефть на прошлой неделе прорвалась выше отметки $51 за баррель.
В общем, если рынки в ближайшее время не прибьет каким-либо шальным «черным лебедем», стоимость стальной продукции за рубежом, по крайней мере, до февраля-марта останется высокой. В связи с этим возникает вопрос о котировках на прокат в России.
С одной стороны, если стальная продукция дорожает везде, то почему для отечественного рынка должны предоставляться исключения?! При этом нельзя сказать, что более чем 25%-е повышение заводских цен на горячекатаный прокат за две недели является совсем уж необоснованным. В конце концов, металлолом в России поднялся более чем до 20 тыс. руб. за т без НДС и железнодорожного тарифа, что является абсолютным рекордом, а внутренние цены на железную руду даже при поставках в пределах одной группы ориентируются на международные индексы. Да и дефицит у нас тоже есть, так как меткомбинаты переориентировались на экспорт.
Впрочем, совсем уж вешать нос и посыпать голову пеплом нам тоже не стоит. Крупный бизнес, работающий в тесной связке с государством, — это тоже хороший локомотив для экономики, доказано в свое время Южной Кореей. И происходящий на наших глазах запуск нового инвестиционного цикла, включающий также и государственные капиталовложения в инфраструктуру, позволяет смотреть в будущее с определенным оптимизмом.
Хотя нынешние времена, конечно, непростые. Напряжение чувствуется во всем. Надо выдержать.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Главным событием периода конца ноября — начала декабря на российском рынке стали было, без сомнения, «взрывное» повышение цен на стальную продукцию, прежде всего, листовой прокат. Металлургические компании стремятся подтянуть внутренние котировки в долларовом эквиваленте к уровню экспортных продаж и делают это резко и быстро, чтобы не отрезать хвост по частям.
С технической точки зрения, у производителей есть основания так поступать. На мировом рынке листовой прокат сейчас в сильном дефиците, а цены на него взлетели вверх. В Турции местные компании в первую неделю декабря предлагали горячекатаные рулоны на уровне $700 за т EXW, а в странах Западной Европе базовые котировки на данную продукцию приближаются к 600 евро за т. Причем, самое главное, почти нет оснований опасаться резкого падения.
Некоторые европейские трейдеры открыто ворчат, призывая Европейскую комиссию временно отменить квоты на импорт стали, чтобы позволить российским и турецким компаниям насытить, наконец, региональный рынок стальной продукции. Но и без этого отечественным экспортерам живется совсем не плохо. Они тоже обеспечены заказами, как минимум, до марта, а то и апреля, причем по нынешним высоким ценам, превышающим $600 за т FOB для горячекатаного проката. Даже если котировки потом упадут, они все равно останутся в выигрыше.
Впрочем, рынок пока не падает. Хотя в некоторых сегментах уже заметна некоторая усталость. Например, с трудом идет дальнейший рост цен на арматуру и металлолом в Турции. Похолодание в Китае стабилизировало местный рынок сортового проката и положило конец подъему котировок на товарную заготовку. В результате китайские компании приостановили ее импорт. В других странах Дальнего Востока полуфабрикаты все еще дорожают, но без китайского содействия им будет трудно взять новые высоты.
В то же время, Европа и США, по мнению местных специалистов, будут расти, по меньшей мере, до Рождества. В Штатах базовые цены на горячекатаные рулоны к настоящему времени превысили $900 за т EXW, а на оцинкованную сталь — достигли $1100 за т. Это нивелирует эффект 25%-ных стальных тарифов и открывает американский рынок для поставщиков из других стран. Например, вьетнамские компании отправляют в США оцинковку во все больших объемах и скупают подкат, где только могут. В ноябре стоимость горячекатаных рулонов под перекат не превышала во Вьетнаме $610-630 за т CFR, но теперь она запросто может перескочить через $650 за т.
Подъем в секторе листового проката продолжается и в Китае. Экономика страны мощно накатывает на финиш года. Западные страны приобретают огромные объемы китайского (и, кстати, вьетнамского) ширпотреба, из-за чего в мире возник серьезный дефицит контейнеров. Китайский бизнес, получивший в этом году крупные налоговые льготы и снижение прочих платежей в рамках программы посткоронавирусного стимулирования экономики, растет как на дрожжах.
Производство стальной продукции в стране не снижается вопреки традиционным сезонным тенденциям. Из-за этого железная руда подскочила почти до $140 за т — самого высокого уровня за последние семь лет. Металлолом, кстати, на максимуме за два с половиной года. И это еще один довод в пользу сохранения дороговизны стальной продукции.
Таким образом, на свои, как минимум, $600 за т FOB на экспорте российские компании могут твердо рассчитывать. Но вот вопрос о том, стоит ли выводить на эту отметку внутренние цены, выглядит совсем не однозначным. С одной стороны, да, бизнес есть бизнес. Если приоритетным направлением для меткомбинатов является внешний рынок, который возьмет столько, сколько сможешь продать, да еще спасибо скажет, то почему отечественные покупатели должны платить меньше?! Тем более, что у производителей есть твердая уверенность: потребитель заплатит! Если в Европе или Турции он берет прокат и не сильно смотрит на цену, то почему в России он должен вести себя как-то по-иному?! Собственно, одновременно со взлетом в секторе горячекатаного проката на нашем рынке поднялись заводские и спотовые котировки на сварные трубы.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Повышение цен на мировом рынке стали продолжается. Стоимость горячекатаного проката во Вьетнаме и Турции уже превысила $600 за т CFR. Европейские компании вышли на рубеж 550 евро за т EXW и держат в уме 600 евро, о которых заявила еще в середине месяца ArcelorMittal. В США поставщикам покорилась вершина $850 за т EXW.
Подорожание стальной продукции сопровождается аналогичным взлетом цен на сырье. Металлолом в Турции и Восточной Азии достиг наивысшего значения с лета 2018 г. — $350 за т CFR и более. Железная руда поставляется примерно по $130 за т CFR Китай. Даже нефть впервые после обвала в марте стоит более $48 за баррель.
При этом следует отметить, что этот подъем уже не производит впечатление краткосрочного скачка. Да, на некоторых рынках в декабре котировки, скорее всего, откорректируются вниз. Но отступления обратно на уровень начала осени, скорее всего, не произойдет. Изменилась ситуация в экономике, на которую повлияли, прежде всего, изменившиеся ожидания.
В настоящее время западные и, кстати, турецкие металлургические компании заполнили портфели заказов на первый квартал и продают апрель. Понятно, что рано или поздно стадия накопления запасов закончится, видимый спрос пойдет на спад, а цены отступят — благо, им есть, куда отступать. Но это понижение, по-видимому, не будет ни резким, ни значительным, хотя бы потому, что на свете есть Китай.
Предполагалось, что спрос на стальную продукцию на китайском рынке пойдет на спад из-за ухудшения погоды. Во второй половине ноября в северо-восточные провинции страны, вроде бы, пришла зима со снегом и холодом, но затем все снова наладилось. По прогнозам метеорологов, как минимум, еще неделю в густонаселенных восточных провинциях будет стоять умеренно прохладная сухая погода, так что ничто не будет мешать строителям. А цены на прокат и железную руду на китайском рынке снова рванули вверх и к концу прошедшей недели установили новые максимальные значения за последние 1,5-2,5 года.
В начале осени многие аналитики прогнозировали на конец года постепенное замедление китайской экономики. Они ошиблись. Правительство КНР не объявляло в последние месяцы о новых стимулах, поскольку в них уже не было необходимости. Запущенные ранее программы инфраструктурного строительства, дешевые кредиты, восстановление потребительского рынка — все эти факторы обеспечили Китаю настоящий экономический бум. По официальным прогнозам, рост ВВП в четвертом квартале превысит 6% год к году. Потребление и производство стальной продукции даже в зимние месяцы останутся на высоком уровне.
Конечно, сейчас китайский рынок немного перегрет. И когда на северо-восток страны придут морозы и снегопады, котировки снизятся. Соответственно, прекратится подъем на азиатском рынке металлолома, по всему региону подешевеет заготовка. Но и в этом случае новые цены будут выше, чем в октябре текущего года.
Вероятно, свой пик в декабре пройдут и экспортные котировки на российскую стальную продукцию и полуфабрикаты. Но их превышение над внутренним рынком сохранится. При этом сегодня продавцы проката в России доминируют над покупателями, а продажи за рубеж имеют для металлургов первостепенное значение. Поэтому спотовым ценам придется и дальше подтягиваться к заводским.
В принципе, больших проблем с этим нет. В последнюю неделю ноября в России на споте дорожали почти все основные виды стальной продукции — листовой прокат от горячекатного листа до оцинковки и полимерки, арматура, сварные трубы. Видимый спрос, безусловно уменьшился по сравнению с началом осени, но остается достаточно высоким для этого времени года. И, самое главное, дешевый прокат сейчас в России взять неоткуда. И в ближайшее время, очевидно, его и не будет.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Цены прут вверх как сумасшедшие. За неделю еще $20-40 за т в плюс — легко! На некоторых рынках они достигли наивысшей отметки за полтора года, где-то вышли на уровень осени 2018 г. Горячекатаный прокат в Турции, Вьетнаме, Евросоюзе дошел до $600 за т, а в США — до $800 за т!
И рост на этом не останавливается. ArcelorMittal в ЕС объявляет о повышении базовых цен на г/к до 600 евро за т EXW. Российские экспортеры примериваются к $575 за т FOB при поставках в Турцию.
Для самих металлургов это хорошо, конечно. А для внутреннего рынка — страшно. Потому что экспортный паритет при таких раскладах улетает к 52 тыс. руб. за т с НДС. Впору молить: «Рубль, вернись хотя бы к 65 за доллар, я все прощу!» Даже нефть, и та доползла почти до $45 за баррель.
Лидерами нынешнего подъема выступают несколько стран. Само собой, в их число входит Китай. Экономика там летит вперед на всех оборотах. Государство, борясь с коронавирусом, резко увеличило в этом году финансирование инфраструктурных проектов, нарастило строительство, выдало триллионы юаней кредитов компаниям реального сектора.
По данным статистики, в Китае сейчас растет спрос на все — недвижимость, автомобили, бытовую технику, грузовики, экскаваторы… Одним словом, в отличие от Европы и США, ковидные деньги там изначально пошли в народное хозяйство, что и вызвало беспрецедентное расширение платежеспособного спроса, а также рекордный рост потребления ресурсов, включая стальную продукцию, и рост цен на них.
В ноябре к этому добавились ожидания приближающейся зимы, которая, по прогнозам метеорологов, будет холодной и снежной. Поэтому китайские строители буквально перешли на работу в три смены, чтобы успеть сделать как можно больше до морозов, пока деньги дают, а конечные потребители проката в других отраслях приступили к пополнению запасов, чтобы не остаться с пустыми складами посреди зимы, когда транспорт занимается перевозками угля.
Вот цены на прокат в Китае и вышли на пиковые уровни начала августа, когда на местном рынке наблюдался точно такой же ажиотаж. Одновременно взлетела железная руда. Здесь китайский спрос наложился на временное сокращение поставок из Бразилии и Австралии.
Немаловажную роль сыграл и такой фактор как укрепление юаня до самого высокого уровня за два с половиной года. Благодаря этому китайские компании не слишком чувствительны к подъему долларовых котировок на импортную железную руду, а сами отправляют стальную продукцию на экспорт по весьма высоким ценам.
Представляется, что с началом холодов в Китае рынок придет в норму, а стоимость сырья и стальной продукции отступит. Арматура и горячекатаный прокат на споте уже превысили 4000 юаней за т ($539 без НДС по нынешнему курсу), а это пик, на котором цены обычно долго не держатся.
Итак, Китай — одна из важных составляющих текущего скачка на мировом рынке стали. Следующими источниками этого роста следует назвать Вьетнам, Индию и Турцию. В первой половине ноября все они демонстрировали высокий спрос на стальную продукцию. При этом Вьетнам сам по себе очень бурно развивается, повторяя путь Китая, только с задержкой лет на 15-20. А в Индии имеет место быть восстановительный рост после сильнейшего провала во втором квартале. Там во всю мощь действует эффект отложенного спроса.
Турция на их фоне производит впечатление спринтера. Там случилось почти 10%-е повышение курса национальной валюты менее чем за неделю, что для этой страны является, без преувеличения, чудом невиданным. Похоже, местные потребители не слишком верят, что лира удержится надолго, и всеми силами скупают стальную продукцию в запас, пока она снова не подорожала. Сейчас российские производители горячекатаного проката совершенно правильно сконцентрировались на турецком рынке, спеша ковать железо, не отходя от кассы. Вряд ли такой ажиотаж с подъемом цен более чем на 15% за три недели продлится там долго.
В Европе и США листовой прокат продолжает идти вверх по тем же причинам, что и раньше. Автомобилестроители наращивают видимое потребление после простоев, а в условиях ограниченного объема предложения это приводит к вымыванию продукции со спотового рынка. Нечто подобное, хотя и в более легкой форме, происходит в России. Только у нас прокат уходит не на автозаводы, а на экспорт.
Причем засада в том, что восполнить дефицит за счет импорта западным странам нельзя. У американцев стальные тарифы, а в ЕС действуют квартальные квоты. Причем против Турции, крупнейшего поставщика горячекатаного проката, скорее всего, будут введены ретроспективные антидемпинговые пошлины.
Сейчас американские и европейские компании принимают заказы на февраль-апрель и взвинчивают цены на лист. Причем, что характерно, арматура в США уже несколько месяцев сохраняет стабильность, а в Евросоюзе даже немного подешевела в этом месяце. А это говорит о том, что подъем имеет искусственный характер. Закончится действие эффекта отложенного спроса в автомобилестроении, и покатятся цены вниз. Скорее всего, это произойдет в первом квартале будущего года.
Безусловно, подъем на мировом рынке стали еще какое-то время будет продолжаться, а еще какое-то время цены продержатся на высоком уровне просто по инерции. А там, глядишь, и весна наступит с ее сезонным ростом. Поэтому резкое падение в обозримом будущем, пожалуй, маловероятно, хотя без некоторого понижения в декабре-январе, по-видимому, не обойдется.
В то же время, для российских металлотрейдеров текущая обстановка складывается неблагоприятно. Начинается зима, когда спрос естественным образом падает. И хотя в той же стройке высокий сезон в этом году оказался сильно сдвинутым вперед, против природы, как говорится, не попрешь. Между тем, заводские цены растут, а экспортный паритет вообще уходит ввысь в какие-то невероятные дали.
Чтобы снять эти противоречия и разрешить конфликт, необходимо либо понижение экспортных котировок на горячекатаный прокат и заготовку хотя бы на 10-15%, или повышение курса рубля на ту же величину. Первое произойти в принципе может, но не скоро. Второе в обозримом будущем маловероятно. Остается только поднимать цены на споте, что, понятное дело, не просто. Но и выжидать до бесконечности тоже не получится.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Российские машиностроители показывают различные результаты. Как правило, у них сильное конструкторское звено. Те, кто сохранил старую советскую школу, сейчас успешно подкрепляют традиции новыми знаниями. Их отставание от зарубежных конкурентов зачастую обусловлено такими факторами как дизайн, эргономика, уровень сервисного обслуживания и вообще поддержание отношений с клиентами, условия продаж. Над этими вещами еще надо работать.
Металлургические предприятия чувствуют себя хорошо. Низкий курс рубля и высокая конкурентоспособность помогли им сохранить или даже укрепить позиции на внешних рынках. Правда, это оборачивается усилением давления на отечественных потребителей. Заводские котировки на прокат поднялись в ноябре и, очевидно, снова прибавят по декабрьским контрактам. При этом металлурги явно настроены на продолжение роста и в первом квартале 2021 г. Перед дистрибьюторскими компаниями стоит непростая задача — реализовать аналогичное повышение на споте. В последнее время у них это получалось не очень хорошо.
Причин для повышения цен у металлургических компаний хватает. Например, в России дорожает металлолом. Спрос на это сырье весьма активный, в том числе, и со стороны экспортеров, а объемы предложения оставляют желать лучшего. Карантин нанес серьезный удар по бизнесу сборщиков — физических лиц, а компенсировать эти потери не удается до сих пор.
Кстати, в целом мировой рынок стали на прошлой неделе находился на повышении, затронувшем все основные сегменты. Котировки на заготовку, сортовой и листовой прокат прибавили порядка $10-20 за т и теперь находятся на уровне лета прошлого года. Правда, этот подъем все-таки не производит впечатления долгосрочной тенденции.
Прежде всего, одной из причиной роста стало повышение активности в Китае. Местные компании торопятся, опасаясь холодной зимы. Пока погода стоит хорошая, строительный сектор демонстрирует просто небывалое для этого времени года оживление. А местные власти, заставляя некоторые металлургические компании сокращать выпуск, чтобы снизить давление на окружающую среду, способствуют ограничению предложения.
В результате, в частности, цены на арматуру в Китае подскочили до самой высокой отметки за одиннадцать месяцев, а на товарную заготовку — за пятнадцать. Это способствует расширению китайского импорта полуфабрикатов и подорожанию данной продукции. Однако, скорее всего, наступление холодов обратит процесс вспять.
В Турции и европейских странах причинами ценовых подъемов стали укрепление лиры, увеличение стоимости металлолома до более $300 за т CFR Турция и, не в последнюю очередь, «добрый дедушка Байден». От «хайли лайкли» нового президента США ждут, что он исправит все несообразности, которые наворотил за четыре года злобный Трамп, и в мировую экономику вернутся мир и благолепие. В частности, немалые надежды возлагают на него китайцы, у которых с Байдером давние, длительные и, надо понимать, взаимовыгодные деловые отношения.
Однако экономические эксперты не ожидают каких-либо резких изменений в американской торговой политике после смены власти. Так, American Iron and Steel Institute (AISI) яростно лоббирует сохранение стальных и алюминиевых тарифов, которые, по его мнению, необходимы для поддержки национальной металлургической промышленности. Многие американские компании в последние годы перевели производственные мощности из Китая во Вьетнам, Индонезию или Мексику и не слишком хотят тратить новые деньги, для того чтобы вернуться обратно. Никуда не делись и конфликты между Евросоюзом и США в авиастроении и сфере информационных технологий, имеющие фундаментальный характер.
Что, скорее всего, изменится, если команде Байдена удастся сломить сопротивление противника, так это отношение новых американских властей к климатической тематике. Впрочем, доля ветряной и солнечной энергетики в США росла и при президентстве Трампа, а власти более десятка «демократических» штатов уже приняли постановления о переходе к полностью безуглеродной энергетике к 2040-2050 гг. Конечно, можно влить туда еще больше государственных средств, повысить субсидии на электромобили, но это не будет чем-то кардинально новым. А вот решится ли новая администрация ограничить добычу сланцевой нефти и газа — большой вопрос.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Хотя общая ситуация в стране и в мире, скажем так, оставляет желать лучшего, особенно, в плане здравоохранения, российская металлургия подходит к своей ежегодной выставке во вполне здоровом и бодром состоянии.
Прежде всего, она в очередной раз доказала свою высокую конкурентоспособность на мировом рынке. Отечественные металлургические компании минимизировали потери от эпидемии коронавируса, компенсировав сужение внутреннего спроса, особенно, во втором квартале расширением экспортных операций.
Теперь перед дистрибьюторскими компаниями стоит непростая задача по поднятию спотовых цен на арматуру и горячекатаный прокат перед началом зимы, когда спрос на эту продукцию по объективным причинам снижается. И очень велика вероятность, что им так и не удастся довести прокат даже до уровня ноябрьских заводских котировок.
При этом Россия — не Турция, где ослабление курса национальной валюты на 10-20% в год считается привычным явлением и ни у кого не вызывает особых эмоций. Нынешняя модель российской экономики основана на низкой инфляции, а в некоторых секторах в последние годы вообще наблюдается дефляция. Поэтому стабильный валютный курс для нее представляет собой обязательную программу.
Потребление стальной продукции в России становится все более разнообразным и специализированным. Металлургические компании больше ориентируются на конкретных потребителей в промышленности и добывающих отраслях. Хотя, конечно, ключевой отраслью для отечественного рынка стали остается строительство. Там сильно просел коммерческий сектор, но инфраструктурные проекты на подъеме, а жилищной сфере можно рассчитывать на меры государственной поддержки.
Мировой рынок стали, как ни удивительно, начал ноябрь на скромном, но однозначном повышении. «Локауты», объявленные в ряде стран, стали из неясной угрозы объективной и предсказуемой реальностью. При этом они не затрагивают промышленность и строительный сектор. Правда, новые ограничения, сопровождающиеся ростом безработицы, падением уверенности в будущем и прочими экономическими неприятностями, скорее всего, окажут негативное воздействие на рынки автомобилей, недвижимости и других товаров длительного пользования. Сейчас металлурги обеспечены заказами на пару-тройку месяцев вперед, но после Нового года у них могут начаться проблемы.
Прояснилась, можно сказать, обстановка и в США. Байден и компания празднуют «перемогу». Впрочем, в любом случае творческие подходы к подсчету голосов в ряде штатов несомненно войдут в анналы мировой демократии. А информационное покрытие конфликта американскими СМИ вызывают большие сомнения в том, что с этой страной вообще можно иметь дело в чем бы то ни было.
Впрочем, европейские СМИ просто в восторге от перспектив президентства Байдена, а официальное объявление о его победе будет, без сомнения, воспринято рынками как положительный сигнал. Другое дело, что реальная политика может существенно отличаться от предвыборной риторики.
В последние дни подскочили спрос и цены на стальную продукцию в Китае. Отчасти это обусловлено тем, что метеорологи прогнозируют холодную зиму. Поэтому строительные компании стараются успеть как можно больше до морозов, а другие конечные потребители накапливают запасы, опасаясь перебоев с поставками. Позднее это наверняка обернется сужением видимого спроса.
Однако Китай в любом случае останется главной движущей силой в мировой металлургической отрасли. В 2021 г. в стране начинается новая, 14-я Пятилетка, в которой особое внимание будет уделяться инфраструктуре, в том числе, энергетической и информационной, экологии, научно-техническому развитию. Китайское руководство хочет, чтобы к 2035 г. КНР по уровню доходов населения встала вровень со странами среднего достатка наподобие Южной Кореи или Израиля. А это означает приоритетное развитие высокотехнологичных отраслей, обеспечивающих высокий уровень добавленной стоимости и создающих большое число высокооплачиваемых рабочих мест.
По оценкам китайских специалистов, потребление стали в стране в ближайшие годы стабилизируется, но на весьма высоком уровне — порядка 1 млрд. т в год. При этом в металлургической отрасли будут продолжаться процессы модернизации. За счет этого, скорее всего, удастся положить конец непрерывному расширению производственных мощностей. Вряд ли Китай в обозримом будущем останется нетто-импортером стали, как это было в июне-сентябре текущего года, но его влияние на мировой рынок как крупного экспортера будет менее значительным.
Нормализовалась ситуация и в Индии. В апреле-сентябре 2020 г. местные компании отправили на экспорт порядка 10,8 млн. т стальной продукции и полуфабрикатов, но в последние несколько недель индийских металлургов больше интересует национальный рынок. В отличие от рубля или турецкой лиры, индийская рупия в этом году сохранила относительную стабильность. Поэтому внутренние цены на прокат в стране выше экспортных.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Современная экономика — это очень большая и чудовищно инерционная система, обладающая солидным запасом прочности. Конечно, по принципам диалектики, количественные изменения рано или поздно переходят в качественные, и это зачастую случается достаточно резко. Но, как говорится, не стоит уж слишком раскатывать губу… Игра идет вдолгую, поэтому приходится терпеть и отслеживать те постоянные малозаметные изменения, которые происходят и в нашей стране, и за ее пределами.
На прошлой неделе состоялась онлайновая конференция Steel Success Strategies Online (SSS 2020), которую провела Fastmarkets. Помимо всего прочего, там был поставлен интересный вопрос о том, какой станет мировая металлургическая промышленность в 30 лет, в 2050 году?
Вообще-то, если посмотреть на 30 лет назад, в 1990 г., получится, что за это время произошли довольно радикальные количественные изменения. За три десятилетия Китай превратился из нищего захолустья в промышленную сверхдержаву, которая выплавляет почти 60% стали в мире, а Индия практически из ничего поднялась на второе место в глобальном рейтинге. В то же время, страны СНГ, даже все вместе взятые, не дотягивают до того еще, умирающего Советского Союза, да и западные государства, пройдя через деиндустриализацию, сильно сбавили обороты.
Однако в технологиях за тридцать лет не произошло каких-либо принципиальных перемен. Да, за это время окончательно ушли в небытие мартены, а непрерывная разливка стали используется сейчас практически везде. Стало больше мини- и микрозаводов, которые освоили выпуск не только арматуры, но и листового проката, а многие меткомбинаты, наоборот, прекратили свое существование. В сортаменте металлургических компаний увеличилась доля продукции с более высокой добавленной стоимостью, в частности, проката с покрытиями.
Во-вторых, климатическая кампания — далеко не первая. До этого были и борьба с озоновой дырой (мир праху тогдашней холодильной промышленности и да здравствует DuPont, «вовремя» подгадавшая с заменой фреонам), и борьба с коноплей (снова DuPont, погубившая целую отрасль по выращиванию технической конопли, из которой, например, можно было делать белую бумагу, не нуждающуюся в химических отбеливателях), и ЛГБТ-движение, организованное теми же людьми и с точной такой же информационной поддержкой.
Тем не менее, приходится признать, что на сегодняшний день все это — реальность. Многие страны не только перестраивают свою экономику в соответствии с новыми идеологическими установками, но и усиленно давят на остальных, чтобы они сделали у себя то же самое. А помогают им в этом некие «институциональные инвесторы» с десятками триллионов долларов в активах.
В общем, «зеленая» металлургия образца 2050 г. в рамках этой парадигмы выглядит следующим образом. Во-первых, металлургические комбинаты, по большей частью, вымерли как динозавры, а по меньшей, обзавелись установками по улавливанию и утилизации углекислого газа. Во-вторых, в качестве восстановителя повсеместно используется водород, который получают на электролизерах, питаемых солнечной или ветряной энергией. В-третьих, в качестве сырья для производства стали используется металлолом либо восстановленное железо, полученное с помощью того же водорода.
В-четвертых, многие эксперты предполагают, что экономика 2050 г. будет более металлоемкой, чем современная. Прежде всего, прогнозируется замещение бетона стальным строительством, потому что при производстве цемента выделяется углекислый газ, и ничего с этим не поделаешь, а перевести еще и цементные заводы на водород — кишка тонка. Кроме того, больше металла потребуется для новой энергетической инфраструктуры. Так, по некоторым прогнозам, чтобы перевести мир на возобновляемую энергию, к 2050 г. потребуется поставить три миллиона ветроустановок, для каждой из которых понадобится по несколько тысяч тонн стали. Причем через каждые 20-30 лет эти башни надо будет заменять новыми. При таких раскладах прогнозы о расширении мирового потребления стали до 3,5-4 млрд. т в год к 2050 г. уже не выглядят такими уж невероятными.
Интересно, что вообще вся борьба с глобальным потеплением представляется чудовищно дорогостоящим и ресурсоемким предприятием. Уже отмечалось, например, что для одной только замены нынешнего автопарка электромобилями потребуются фантастические объемы меди, лития, кобальта, никеля, для чего в ближайшие 15 лет надо будет инвестировать в горнодобычу вдвое больше средств, чем было вложено в 2005-2020 гг.
А после обнародования прогнозов на SSS 2020 появляются вопросы о том, хватит ли вообще ресурсов на эти три миллиона ветряков и глобальное стальное строительство?! Или нам через тридцать лет придется пускать в переработку каждый кусочек использованного металла и добывать руду с менее чем 15%-ным содержанием железа, как это сейчас приходится делать в Китае? И какая тогда будет себестоимость стали с такой-то дороговизной ресурсов, да еще с водородными технологиями?!
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Слабый рубль в последние месяцы сильно сдвинул баланс в сторону экспорта. Российские металлургические компании, как выяснилось, могут компенсировать любой спад внутреннего потребления увеличением внешних продаж. По этой причине производители заявляют о намерении поднять в ноябре отпускные цены на арматуру и горячекатаный прокат, хотя и в том, и в другом сегменте спотовый рынок, пожалуй, исчерпал возможности для роста и находится на грани сезонного понижения.
Внешний фактор сыграл немалую роль в рекордном подъеме в секторе проката с покрытиями, который, очевидно, только в ноябре пройдет свой пик. Мало того, что дешевый рубль позволил российским компаниям нарастить поставки оцинкованной стали в Европе. Власти «слишком хорошо» выполнили задачу по защите отечественного рынка от внешней конкуренции, введя антидемпинговые пошлины на украинскую и китайскую продукцию, а валютный курс довершил дело. Выходит, по оцинковке российские производители еще не достигли полного импортозамещения!
Данные тенденции наблюдаются не только в России. Так, например, выдающийся подъем происходит в последние два с половиной месяца на американском рынке листового проката. Местные цены на горячекатаные рулоны за это время поднялись на 50% или около $250 за т, прибавляя по $20-25 за т в неделю.
Как сообщают американские источники, причин такого стремительного роста две. Во-первых, за время карантина упали до минимума все складские запасы — автомобилей у дилеров, бытовой техники на складах, стальной продукции в металлотрейдерских сетях. Как только экономика начала приподнимать голову во второй половине лета, все стали восстанавливать резервы, создав мощный эффект отложенного спроса. Нечто подобное было у нас в июне со стальными трубами.
Во-вторых, американские металлургические компании пока не слишком спешат с возвращением в строй производственных мощностей. Средний уровень их загрузки поднялся от менее 60% в конце августа лишь до около 70% во второй половине октября. По-прежнему в США простаивают три доменные печи из восьми остановленных весной, не запущены и некоторые электропечи на заводах по производству листового проката. Впрочем, может, это и правильно. Некоторые американские аналитики прогнозируют резкое падение цен в начале 2021 г., когда рынок окончательно насытится, а спрос снова упадет.
В Евросоюзе тоже сработал эффект отложенного спроса на автомобили. В сентябре их продажи впервые в этом году превысили прошлогодний показатель. Соответственно, увеличился спрос на стальную продукцию для автопрома. Но тут существенное значение имело и сужение объема предложения горячекатаного проката, на который с 1 июля были введены страновые квоты. Это сильно урезало поставки из Турции, которая была ведущим экспортером данной продукции в ЕС. Кроме того, против турецких компаний ведется антидемпинговое расследование, которое может завершиться ретроспективными пошлинами с точкой отсчета в середине октября.
На прошлой неделе корпорация ArcelorMittal, недавно продавшая свои американские активы, объявила о повышении котировок на горячекатаный прокат сразу на 50 евро за т, до 530-550 евро за т EXW за базу. При этом реальные цены еще с конца сентября затормозились на границе 500 евро за т. Однако сочетание ограниченного импорта и агрессивной позиции металлургических компаний могут сдвинуть их вверх.
Вообще, перспективы европейской металлургической отрасли выглядят не слишком благоприятными. Местные компании несут все больше лишних расходов, связанных с реализацией климатической политики. Плата за выбросы углекислого газа, внедрение водородных технологий, использование возобновляемой энергии не создают никакой стоимости, не способствуют увеличению производительности и повышению качества продукции.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

До сих пор со стороны предприятий отрасли сохраняется очень высокий спрос на прокат с покрытиями и умеренно высокий — на стальные трубы. Цены на продукцию этих категорий продолжает подниматься. Правда, в секторе оцинкованного и окрашенного проката немалую роль сыграл и дефицит предложения, обусловленный нехваткой подката и сужением объемов импорта.
В то же время, арматура, похоже, уже достигла пика и в ближайшем будущем, вероятно, повернется к снижению на споте. Не слишком благоприятными выглядят перспективы и горячекатаного проката. При том, что производители не отказываются от намерения поднять котировки на оба вида продукции в ноябре.
Сейчас соотношение между внутренними ценами и экспортом сдвинуто в сторону зарубежных поставок. Отчасти это воздействие курса рубля, который как-то застрял на уровне 77-79 руб. за доллар и больше не падает, но и не укрепляется. Но не следует забывать еще и о том, что происходит на мировом рынке.
Если в первую неделю октября ситуация представлялась не слишком радужной, то теперь там есть просветы. В Китае понемногу снижаются внутренние цены на стальную продукцию, однако местные производители подняли экспортные котировки. Причем эта тенденция была поддержана и другими участниками азиатского рынка.
Также китайцы возобновили импортные закупки заготовки. Пусть по сравнительно невысоким ценам, преимущественно, в странах АСЕАН, но возобновили. Это означает, что в ближайшее время не произойдет спада в Восточной Азии.
В Турции стало чуть лучше с арматурой, слегка подорожал металлолом. А российским металлургам удалось заключить новые контракты на поставку горячекатаного проката на этот рынок, причем на несколько более высоком уровне, чем в начале текущего месяца.
В Евросоюзе окончательно наступила стабилизация после сентябрьского подъема. Дистрибьюторы и большинство конечных потребителей восполнили запасы, рынок насытился. Поэтому попытки региональных металлургических компаний довести базовые цены на горячекатаный прокат до 520-530 евро за т EXW с поставкой в первом квартале 2021 г. пока безуспешны.
Представляется, что во второй половине октября каких-либо существенных событий в мире не произойдет. Но нас может ждать очень даже штормовой ноябрь.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»
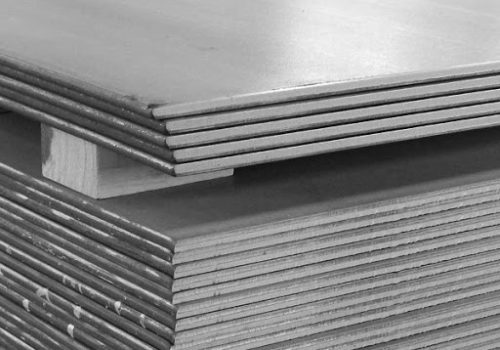
Российский рынок стали пока «не замечает» новых проблем. Спрос на такие виды стальной продукции как прокат с покрытиями, холоднокатаный прокат, отчасти трубы общего назначения остается высоким. Цены на них растут. На другие категории, в частности, арматуру и горячекатаный прокат тоже растут, хотя и через силу. Тут основной движущей силой выступают действия металлургических комбинатов, пытающихся приблизить внутренние котировки к экспортным паритетам, а первопричиной — низкий курс рубля.
В целом ситуацию в российской экономике можно назвать относительно стабильной. Не очень хорошей — весенний карантин еще долго будет нам аукаться, а тут появились и новые проблемы, — но устойчивой. Роль ее опоры продолжают играть крупные государственные и частные компании. Судя по новостям за последнюю неделю, как минимум, в металлургии инвестиционные процессы идут полным ходом. Да и не только в металлургии, пожалуй.
Мировой рынок рвется на части под влиянием политики. Так, может, надо просто смириться с этим процессом и создавать с помощью партнеров свою торговую зону здравого смысла без тоталитарной толерастии и дорогостоящих климатических бредней, но со взаимным уважением, порядочностью, соблюдением законов и правил?! Представляется, что само существование в нормальных человеческих условиях без мозговыносительств и извращений уже становится в некоторой степени роскошью.
Весной и летом приоритетом для российских металлургических комбинатов был экспорт. Собственно, внешние рынки и сейчас сохраняют высокую привлекательность, хотя бы за счет более высоких долларовых цен. Однако условия для внешних поставок с тех пор заметно ухудшились.
Прежде всего, сентябрь показал, что без китайского импорта мировому рынку стали становится грустно. Практически всю первую декаду октября китайцы праздновали годовщину основания КНР. Теперь они возвращаются к делам. Биржевые торги 9 октября, в первый день после завершения паузы, продемонстрировали рост цен на железную руду, арматуру и горячекатаный прокат примерно до уровня середины сентября. И возникает естественный вопрос: продолжится ли это повышение и дальше?
В принципе, особых препятствий для этого нет. Над Китаем не довлеет проблема коронавируса. По данным компании Caixin, за первые четыре дня праздничной недели в туристические поездки по стране и просто в гости отправились 425 млн. человек, что составляет чуть менее 80% от рекордного в истории прошлогоднего показателя. Да, в сентябре на китайском рынке наблюдалось отчетливое превышение предложения над спросом, но надо учитывать, что оба этих показателя находились на наивысшем уровне в истории. Китай большой, там есть еще, где и что строить, а обновление промышленной базы — процесс перманентный.
В то же время, весьма сомнительно, что во второй половине осени повторится летний ажиотаж, когда китайцы не только загружали по максимуму свои металлургические заводы, но и ввозили значительные объемы стальной продукции из-за рубежа. Кроме того, очень важным фактором является ценовое соотношение. Китайцы летом импортировали заготовку примерно по $400 за т CFR или чуть ниже, а за горячекатаный прокат платили не более $450-470 за т CFR при том, что внутри страны котировки примерно соответствовали нынешним. Поэтому пока мировые цены не вернутся на этот уровень, серьезными импортерами китайцы не станут.
Следующий вопрос — Турция. Летом и в начале осени экономика страны явно находилась на подъеме, а строительный сектор занимал в ней лидирующее место. Но в последнее время положение там пошатнулось. Турецкая валюта падает по отношению к доллару. Причем если рубль пока сумел остановиться на определенном рубеже и даже чуточку укрепился к концу прошедшей недели, то лира проседает все ниже.
В Европе цены на листовой прокат резво росли весь сентябрь. Региональные металлургические компании заявляли о расширении спроса со стороны промышленности, строительства и автомобилестроения и возвращали в строй остановленные весной мощности. Агентство Moody’s повысило прогноз для мировой металлургической отрасли с негативного на стабильный, предсказывая благоприятную конъюнктуру на ближайшие 12-18 месяцев.
Но в начале октября подъем как-то выдохся, а глава ArcelorMittal Poland, комментируя решение компании об окончательном выводе из эксплуатации доменной печи и конвертерного цеха в Кракове, обмолвился, что сентябрьский рост был обусловлен, главным образом, пополнением запасов. Реальное же потребление стальной продукции в регионе все еще существенно отстает от докризисных показателей и в обозримом будущем к ним не вернется.
В США с ценами вообще происходит настоящая вакханалия. За последние два месяца горячекатаный прокат подорожал более чем на 40%, а новые предложения американских компаний превышают $700 за т EXW за базу. Причины для такого взлета есть. Прежде всего, и здесь сработал фактор пополнения запасов, а объем предложения листового проката на местном рынке весьма ограниченный. В отличие от европейцев, американские металлурги пока притормозили процесс возвращения в строй производственных мощностей, а импорт затруднен из-за стальных тарифов и дорогостоящей логистики.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Октябрь начинается сложно. Недалеко от российских границ разворачивается самая настоящая война, в которую активно лезет третья сторона. При этом никуда не делись прежние проблемы с Белоруссией и европровокациями. Нефть упала ниже $40 за баррель, нехорошо с рублем, который вплотную подошел к рубежу 80 руб. за доллар.
Причем если ранее основные проблемы приходили к нам извне, то вспышка коронавируса произошла внутри наших границ. И это именно вспышка — внезапная и разрушительная. Пока что карантинные меры имеют ограниченный характер, но что придется делать, если ежесуточный прирост заражений превысит рекордные майские значения?!
На фоне всех этих событий происходит перестройка мирового рынка стали. Китай однозначно вернул себе роль экспортера. Импорт заготовки и горячекатаного проката в КНР прекратился, и это вполне логично. Стоимость стальной продукции на китайском рынке после сентябрьского понижения опустилась ниже «импортного паритета». Более того, китайским компаниям стало выгодно отправлять горячекатаный прокат за рубеж по цене менее $500 за т FOB (продукция толщиной более 3 мм).
С 1 по 8 октября в Китае празднуют годовщину основания КНР. В отношении того, что произойдет после завершения этой паузы, ожидания достаточно противоречивые. С одной стороны, перепроизводство стальной продукции в стране весьма значительное. В конце сентября складские запасы находились на максимальном уровне с апреля текущего года. Понадобится немало времени, чтобы просто сбалансировать спрос и предложение.
С другой стороны, китайская экономика интенсивно развивается. После праздников продолжится активная реализация крупных строительных проектов. Большинство отраслей промышленности показывают рост по сравнению с показателями годичной давности. Так что спрос на стальную продукцию в Китае во второй половине октября будет высоким.
Наконец, уже с 1 октября ужесточается режим экологического мониторинга. Наступает последняя зима 13-й пятилетки, и надо подтянуть выполнение задания по улучшению качества атмосферного воздуха и снижения уровня загрязнения окружающей среды в крупнейших промышленных центрах. Из-за этого работу металлургических предприятий, возможно, будут чаще прерывать, чтобы улучшить экологические показатели.
Тем не менее, очень маловероятно, что котировки на стальную продукцию в Китае снова поднимутся на августовский уровень, когда стоимость арматуры могла достигать 4000 юаней ($520 без НДС) за т. Да и тогдашний ажиотаж на местном рынке, скорее всего, не повторится. Поэтому на внешние рынки китайские компании вернутся после праздников, по-видимому, лишь в качестве экспортеров стальной продукции. Возобновление ее импорта возможно лишь при снижении стоимости в Азии на 8-12% по сравнению с текущими ценами. Но даже если это произойдет, вряд ли объемы таких сделок сравняются с летними.
Без поддержки со стороны Китая и в условиях растущей экономической неопределенности, вызванной коронавирусом, международной напряженностью и приближением американских выборов, рассчитывать на возобновление роста цен на мировом рынке не приходится. Кстати, к концу сентября, похоже, прекратился подъем и в Европе. Местные потребители и металлотрейдеские компании в августе-сентябре очень активно пополняли израсходованные на весну и лето запасы и к настоящему времени задачу эту в основном выполнили. Теперь видимый спрос будет меньше, да и возвращение в строй производственных мощностей европейских металлургов ослабляет нехватку предложения.
Из всего этого вытекает, что российские компании в ближайшее время будут вынуждены пойти на ценовые уступки при экспорте стальной продукции, а также столкнутся с сокращением внешних заказов. И это станет положительным фактором для внутреннего рынка, который в последнее время, похоже, рассматривался меткомбинатами как второстепенное приложение к желанной загранице.
Отчасти это было вызвано и тем, что в условиях слабого рубля котировки на арматуру и горячекатаный прокат в России находились ниже экспортного паритета. При этом слабость отечественного рынка в одних сегментах и недостаточно высокая активность в других не позволяли уравнять одни цены с другими.
В октябре повышение заводских котировок выглядит безальтернативным. Поэтому дистрибьюторам приходится подтягивать вверх уровень прайс-листов и реальных продаж. В случае проката с покрытиями, холоднокатаных рулонов и отчасти труб это им вполне удается, но вот в секторах арматуры и горячекатаного проката подъем происходит с проблемами.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

На мировом рынке стали, с одной стороны, происходят странные и в чем-то нелогичные события. Но, с другой, он, можно сказать, возвращается к своему привычному состоянию, ранее изменившемуся под воздействием коронавируса.
Одной из таких тенденций становится возвращение Китаю статуса нетто-экспортера стальной продукции, утраченного в летние месяцы. Китайские компании практически полностью потеряли интерес к импорту горячекатаного проката, заготовки и товарного чугуна, зато в последние две-три недели активизировались китайские экспортеры листовой продукции. Причем на региональном рынке горячекатаного проката они заняли привычную позицию в низкоценовом сегменте.
Данная ситуация обусловлена тем, что цены на прокат в Восточной Азии и в Китае совершили рокировку. Ранее стоимость стальной продукции в КНР была выше, что и объясняло интерес местных компаний к импорту. Теперь же к закупкам проката и полуфабрикатов подключились Вьетнам, Филиппины и другие страны Юго-Восточной Азии, по всему региону подорожал металлолом, так что цены там выросли. С другой стороны, в Китае стальная продукция, наоборот, подешевела, опустившись примерно на уровень начала июля.
Что характерно, эти изменения вовсе не означают, что с китайской экономикой произошло в сентябре нечто плохое. Местный рынок оказался «перепроданным» в августе, когда все ждали в начале осени чего-то несусветного, небывалого бума на стройке и дружного подъема в промышленности. Обстановка же просто не вышла за пределы нормального.
Здесь следует отметить, что производство стали в Китае и так достигло в августе рекордной отметки — 94,8 млн. т. К ним еще надо добавить свыше 1,2 млн. т чистого импорта. Это более чем на 10% превышает объем предложения в августе прошлого года. Конечно, китайская экономика сильна, строят там очень много, а промышленное производство в большинстве отраслей превышает прошлогодние показатели, но настолько много стальной продукции ей не нужно.
По данным консалтинговой компании Mysteel, китайские металлургические компании снизили загрузку мощностей в сентябре, так что после празднования очередной годовщины основания КНР в начале октября национальный рынок стали может снова стабилизироваться. Но источником подъема для зарубежных производителей он, скорее всего, уже не станет. Да, страны Юго-Восточной Азии приняли у китайцев эстафету в закупках горячекатаного проката и заготовки, а завершение дождливого сезона в регионе обещает рост потребления стальной продукции. Однако бурного ценового подъема там в ближайшее время, скорее всего, не произойдет.
В то же время, западные страны как с цепи сорвались. В Евросоюзе стоимость листового проката поднялась с начала сентября на 30-50 евро за т. Металлургические компании в четвертом квартале планируют довести базовые цены на горячекатаный прокат до 520-530 евро за т EXW, что представляет собой наивысший уровень с осени 2018 г. В США подорожание за последние четыре недели и вовсе превысило $60 за т. Правда, там цены лишь приблизились к докризисным отметкам: очевидно, из глубокой ямы легче вылазить. Даже в Японии ведущие производители стали объявили о подъеме котировок в октябре на $40-50 за т.
В принципе, причины для такого скачка имеются. Экономика в этих странах действительно демонстрирует рост по сравнению с летними месяцами, хотя и с сохранением солидного отставания от прошлогодних показателей. Металлотрейдеры, прожившие лето с минимальными складскими запасами, приступили к их пополнению. Объемы производства, в то же время, остаются низкими. В августе только в Италии и Великобритании было выплавлено больше стали, чем годом ранее, тогда как в большинстве других стран ОЭСР спад по сравнению с тем же месяцем прошлого года достигает 15% и более.
Однако экономика США и Европы отнюдь не выглядит благополучной. Об этом свидетельствуют, в частности, низкие цены на нефть, едва превышающие $40 за баррель. Причины этой дешевизны понятны: нерешенность проблемы коронавируса, недостаточная экономическая активность, слишком мало пассажирских и грузоперевозок — нет спроса на нефтепродукты. Пока все проблемы заливаются там деньгами с печатного станка. Но сомнительно, что эту политику удастся продлевать до бесконечности. А в ноябре, уже совсем скоро, американские выборы…
Впрочем, подъем в западных странах ликвидирует ненормальную ситуацию, когда стоимость стальной продукции в Китае была выше, чем в США (в начале августа). А европейский рынок листового проката становится интересным для поставщиков из других стран. Только для турецких компаний, находящихся под угрозой антидемпинговых пошлин на горячекатаные рулоны в ЕС, ситуация является весьма двусмысленной.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

На российском рынке стали создалась не совсем типичная ситуация. Внутренние цены на арматуру и листовой прокат оказались ниже экспортных, причем для горячекатаной продукции эта разница достигает 4-5 тыс. руб. за т, что весьма необычно.
Одной из основных причин возникновения такого феномена стало снижение курса рубля в последние месяцы. По сравнению с докризисным уровнем отечественная валюта подешевела почти на 20%, что, конечно, поддержало экспортеров, но сильно сдвинуло вверх пресловутый экспортный паритет.
Сейчас российские металлургические компании настаивают на повышении котировок в октябре, однако это противоречит рыночной логике. Спрос на стальную продукцию пока что достаточно высокий, но в четвертом квартале он так или иначе ослабнет под действием естественных сезонных факторов.
Металлурги основывают свои действия на увеличении стоимости стальной продукции за рубежом. Действительно, за последние полтора месяца экспортные котировки на российский горячекатаный прокат поднялись на 20% и впервые с весны прошлого года превысили отметку $500 за т FOB. Заготовка лишь слегка подорожала после августовского застоя, но этого хватило, чтобы ее стоимость достигла максимального уровня с начала текущего года.
Однако будет ли продолжение у этого роста? Во второй половине августа и в начале сентября весь мировой рынок стали резво шел вверх. Но к настоящему времени обстановка стала более контрастной. Где-то рост продолжается, где-то произошло торможение, а где-то цены пошли вспять.
Пока все хорошо и прекрасно в западных странах. В Евросоюзе только за последние две недели горячекатаный прокат подорожал на 25-35 евро за т, а продукция с более высокой добавленной стоимостью — еще больше.
Металлургические компании рассчитывают в ближайшие две-три недели довести базовые цены на г/к до 500 евро за т EXW и имеют для этого основания. Видимое потребление проката в регионе остается существенно ниже прошлогоднего, но отставание сократилось. Пошли заказы от промышленников и строительного сектора, а местные дистрибьюторы после длительного перерыва приступили к пополнению складских запасов. Еще быстрее поднимаются котировки на листовой прокат в США.
Тем не менее, этот подъем вряд ли будет продолжительным. Положение в экономике западных стран, бесспорно, улучшилось по сравнению с провальным вторым кварталом, но остается еще достаточно сложным. Об этом, в частности, сигнализирует падение цен на нефть. Еще в конце августа биржевые котировки на сорт «брент» превышали $45 за баррель, сейчас они балансируют на отметке $40 за баррель, потеряв более 10% всего за декаду.
В Турции приостановился рост цен на металлолом. Его стоимость достигла $300 за т CFR в первых числах сентября, но пока не в состоянии оторваться от этой отметки. При этом турецкие металлурги не принимают дальнейшего подорожания, опасаясь, что им не удастся продолжить повышение котировок на арматуру внутри страны и на экспорте. Впрочем, не исключено, что они просто собираются с силами и смогут выйти на новые высоты ближе к концу сентября.
По-разному развивается ситуация в азиатских странах. В Индии и Вьетнаме активизировался внутренний спрос. Вследствие этого индийские компании взвинчивают внутренние и экспортные цены на прокат, а также сокращают объемы внешних поставок. Во Вьетнаме импортный горячекатаный прокат подскочил до $535-540 за т CFR. Но этому повышению может положить конец внезапный спад в Китае.
Стоимость арматуры и листового проката на китайском рынке находится сейчас на минимальных отметках за последние два месяца. Местные компании резко сократили импорт заготовки и практически отказались от зарубежных горячекатаных рулонов. В последние дни подешевела, хотя и не очень сильно, железная руда. Китайский фактор начинает оказывать влияние на весь азиатский рынок, направляя его в сторону понижения?
Возможно, негативное влияние на участников китайского рынка оказали данные о стагнации и даже небольшом снижении национального товарного экспорта. Правительство страны открыто предупреждает производителей, что рассчитывать на рост зарубежных продаж в обозримом будущем не приходится, а значит, приоритет должен отдаваться внутренним поставкам. В то же время все понимают, что такой поворот лицом к национальному потребителю будет весьма болезненным. За восемь месяцев 2020 г. китайские компании заработали на экспорте около 11 трлн. юаней ($1,6 трлн.), и даже частично заместить их внутренними продажами не просто.
Так или иначе, видимый спрос на стальную продукцию в Китае снизился, что и привело к падению цен. Правда, аналитики консалтинговой компании Mysteel оптимистично считают, что во второй половине сентября рост возобновится, но котировки, по-видимому, так и не смогут побить августовские рекорды. А без китайской поддержки будет сложно брать новые высоты и азиатскому рынку в целом.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Говорят, цыплят по осени считают. И вот она наступила, эта осень. Большинство стран мира прожили уже более двух месяцев без строгого карантина, запущены и работают все посткризисные программы стимулирования экономики. Как говорится, можно делать выводы.
Безусловно, кризис нам будет долго аукаться. Тем более, что эпидемия продолжается. И хотя массовых карантинов, скорее всего, вводить уже никто не станет, само наличие санитарного контроля и социального дистанцирования будет оказывать негативное влияние на экономику, особенно, на сферу услуг.
Для России серьезными проблемами остаются низкие цены на нефть и газ и снижение объемов их добычи и экспорта. Это главные причины ухудшения макроэкономических показателей: ВВП, промышленного производства, внешних продаж, доходов государственного бюджета. Однако за пределами этого сектора обстановка выглядит вполне приемлемой.
Как сообщил мэр Москвы в докладе президенту, промышленность, строительство, даже торговля и услуги в целом вышли на докризисный уровень. И с этой оценкой реально можно согласиться. По крайней мере, продолжающийся рост цен на стальную продукцию строительного назначения — арматуру, оцинкованный и окрашенный прокат, сварные трубы — свидетельствует о том, что, как минимум, в этой отрасли дела идут неплохо. А в будущем году там можно рассчитывать и на повышение темпов роста за счет мер господдержки и расширения масштабов инфраструктурного строительства, в частности, в той же Москве.
По оценкам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, российская экономика в 2020 г. сократится на 5% по сравнению с прошлым годом, но в 2021 г. рост снова возобновится. Причем, очевидно, он будет иметь не только восстановительный характер. Как сообщил в выступлении на Столыпинском форуме вице-премьер Юрий Борисов, правительство ставит перед собой задачу обеспечения темпов роста ВВП на уровне не менее 3-4% в год за счет приоритетного развития системообразующих отраслей.
К таковым вице-премьер отнес автомобилестроение, авиастроение, тяжелое машиностроение — те производства, где появление одного нового рабочего места позволяет создать 6-8 рабочих мест на предприятиях-смежниках. Очевидно, к этой категории следует отнести и строительный сектор, но речь сейчас идет именно о промышленности. По сути, вице-премьер призывает к созданию в России полноценного широкомасштабного производства комплектующих.
На состоявшейся 27-28 августа в Челябинске и Златоусте конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок» неоднократно звучала мысль о том, что при нынешней ситуации в металлоторговле с ее высокой конкуренцией и низкими маржами естественная стратегия развития бизнеса заключается в переходе к более высокому переделу, от простой резки и шлифовки проката — к изготовлению деталей с применением лазерного раскроя, гибочного, сварочного и прочего оборудования.
Не секрет, что современные машиностроительные предприятия представляют собой, главным образом, соединение конструкторских бюро со сборочным производством. Каждое из них получает комплектующие для своих готовых изделий от сотен специализированных поставщиков, которые зачастую клепают свою продукцию чуть ли не в гаражах с минимальными затратами, но приемлемым качеством. Подобные кластеры производителей комплектующих существуют в Китае, Южной Корее, Германии, Италии. Сейчас фактически начинается их создание и в России.
Если металлотрейдеры осваивают выпуск все более сложной металлопродукции, то перед российскими металлургами стоит другая задача — обеспечение российской промышленности и строительного сектора современными материалами и востребованными видами проката. Пробелы в сортаменте отечественных комбинатов зачастую оборачиваются потерей целых сегментов рынка. Например, сотни тысяч тонн нержавеющей стали в год поступают в Россию уже в виде готовых изделий, потому что у нас, по сути, нет собственного производства холоднокатаного нержавеющего проката.
Впрочем, эту пустоту собралась заполнить группа ТМК, анонсировавшая строительство интегрированного завода по производству нержавеющей продукции. И вообще, только за две недели в отечественной металлургической промышленности анонсировано три крупных инвестиционных проекта — ТМК, нового литейно-прокатного комплекса от ОМК и новой линии цинкования на НЛМК. И это не считая того, что другие российские сталелитейные компании весьма щедро вкладывают средства в свое развитие. Это, кстати, говорит о том, что отечественные металлурги оптимистично оценивают перспективы национальной экономики — ведь большая часть новой продукции так или иначе будет сбываться на внутреннем рынке.
Таким образом, перспективы российской экономики выглядят достаточно благоприятными. Развитие отраслей-лидеров и крупных государственных и частных компаний может помочь малому и среднему бизнесу, который на сегодняшний день является наиболее депрессивным сектором. Из-за этого, в частности, очень медленно и плохо растут внутренние цены на горячекатаный прокат. К началу сентября они оказались ниже экспортных котировок.
На мировом рынке стали сейчас действительно фаза роста. За вторую половину августа подскочили на $40-60 за т цены на листовой прокат в США и Евросоюзе. Стоимость горячекатаных рулонов во Вьетнаме и ОАЭ приближается к отметке $550 за т CFR. Российские компании довели внешние котировки на данную продукцию до немногим менее $500 за т FOB, что соответствует январю текущего года. Подорожание металлолома в Турции обещает новый подъем в секторах заготовки и сортового проката.
Более того, есть все основания рассчитывать на продолжение этого роста. В Китае и других странах Восточной Азии подходит к концу дождливый сезон, а значит, увеличатся объемы потребления стальной продукции. Правда при этом, очевидно, будут и дальше расти затраты металлургов на железную руду и металлолом.
В западных странах, с одной стороны, тоже оживился спрос на стальную продукцию. Но, с другой, их экономика весьма медленно выходит из кризиса. Признаком неблагополучия является, в частности, понижение нефтяных котировок до минимального уровня с конца июля. Непосредственной причиной удешевления нефти биржевые аналитики называют негативные данные об экономике США. Там снова сократилось потребление нефтепродуктов и не уменьшается безработица. И всего два месяца осталось до выборов, которые обещают стать самыми конфликтными в истории страны.
Осень 2020 г. началась в целом хорошо. Но окончательно подводить ее итоги придется в ноябре. А за ближайшие три месяца много чего может случиться.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

За последние месяцы заметно поменялись зоны подъема и спада в российской экономике. Нефтегазодобыча, которая ранее была ее главным двигателем, теперь превратилась в тормоз.
В июле нефти было получено на 16,3% меньше, чем в том же месяце годом ранее, а газа — на 11,4%. Именно обвал в этих отраслях стал основной причиной продолжения спада ВВП и промышленного производства в июле. Доля нефти и газа в доходах государственного бюджета России по итогам первого полугодия упала до 29,3% по сравнению с 43,2% в январе-июне 2019 г.
В то же время, обрабатывающая промышленность явно выходит из кризиса. В том же июле производство легковых автомобилей, наконец, обогнало прошлогодний график, хотя отставание по данным за семь месяцев остается огромным. Стабильный рост демонстрируют пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность. Скоро должны выйти в ноль машиностроение и металлургия.
Вообще, этот ценовой рост для российского рынка — заимствованный, привходящий извне. Котировки на листовой прокат поднимаются на всех региональных рынках. В Китае горячекатаный прокат достиг наивысшего значения с осени 2018 г. Индийские компании предлагают его по $520-530 за т FOB, а европейские производители рассчитывают в сентябре довести базовые цены до 450-500 евро за т EXW — кому на что хватит фантазии. Точно так же и российские металлурги ориентируются на $500 за т CFR при поставках в Турцию, а ведь это соответствует, как минимум, 43 тыс. руб. за т с НДС для российского рынка на условиях CPT.
Но у подорожания горячекатаного проката за рубежом есть свои причины. Одна из главнейших — сырьевая. Стоимость импортной железной руды в Китае на прошлой неделе едва не дотянула до $130 за т CFR, а на этом уровне рынок в предыдущий раз находился в далеком январе 2014 г.,когда никто и не думал ни о каких кризисах. Тогда и нефть дороже $100 за баррель стоила!
Кстати, металлолом в Китае тоже очень дорогой. Мини-заводам в провинции Цзянсу, где расположены его крупнейшие потребители, он обходится почти в $325 без НДС. Прямо обидно, что Китай лом принципиально не импортирует, приравнивая его к опасным промышленным отходам. Хотя в 2021 г. закупки могут быть разрешены, и тогда никому мало не покажется! Как минимум, азиатский рынок лома переформатируется весьма радикально и быстро.
Зато Китай обеспечивает денежными заказами российских экспортеров товарного чугуна и поддерживает высокий уровень цен на заготовку. По оценкам местного издания «Shanghai Metals Market» (SMM), в январе-июле текущего года в страну поступило из-за рубежа 8,33 млн. т полуфабрикатов, при том, что до осени прошлого года китайцы данную продукцию экспортировали! Из них немногим менее 6 млн. т пришлось на заготовку и блюмы и менее 2,5 млн. т — на слябы. Объемы закупок — максимальные с 2004 г.!
Китай сейчас поглощает стальную продукцию в небывалых, невиданных объемах. Миллиард тонн в год — да легко! После эпидемии коронавируса правительство КНР прописало национальной экономике сильнодействующее лекарство — резкое увеличение инвестиций в инфраструктуру. По подсчетам Platts, уже по итогам семи месяцев количество утвержденных центральными властями крупных проектов строительства железных дорог, метро, каналов и аэропортов превысило показатель всего прошлого года. Это позволяет перекрыть спад капиталовложений в частном секторе, который и в Китае имеет место быть.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

В России обстановка неоднозначная. В неважном состоянии находятся малый и средний бизнес, а также многие предприятия обрабатывающей промышленности. В том самом втором квартале у них резко упала прибыль, значительно возросла доля убыточных компаний. Существенного роста доходов у них зачастую нет и до сих пор, а отсутствие уверенности в будущем не позволяет выйти из режима самой жесткой экономии.
Это создает противоречия на российском рынке листового проката. Металлургические компании собираются поднимать внутренние цены на эту продукцию, так как уже они находятся практически на одном уровне с возросшими экспортными. Обусловлено это как низким курсом рубля, так и повышением котировок на российскую продукцию за рубежом – спасибо Турции, ближневосточным и другим странам, которые выходят из кризиса и готовы не только приобретать российский прокат, но и дороже платить за него.
Однако в России внутренние цены на горячекатаный прокат как упали в апреле-мае, так и остались на той отметке. За последние два месяца дистрибьюторам удалось повысить стоимость данной продукции, максимум, на 0,5-1 тыс. руб. за т вследствие недостаточного спроса.
Немного другая картина наблюдается на рынках арматуры и оцинкованной стали и совсем другая – в секторе труб малого и среднего диаметра, преимущественно, строительного назначения. По словам представителей трубных компаний, спрос на их продукцию в июле и начале августа был просто выдающийся. Есть обоснованная надежда и на то, что успешным будет и сентябрь, особенно, если меткомбинаты не станут слишком уж интенсивно задирать вверх цены на рулоны.
Вообще, стройка по всему миру быстрее и успешнее других отраслей начала выходить из кризиса. В Китае она, например, стала источником беспрецедентного роста потребления и производства стали. В июле среднесуточная выплавка незначительно сократилась по сравнению с июнем, более благоприятным по погоде, но все равно превысила 3 млн. т.
Но и в России строительная отрасль, безусловно, рассматривается в качестве одного из основных драйверов подъема. Пожалуй, этот сектор экономики пользуется сейчас самой значительной государственной поддержкой в виде льготной ипотеки, льготных кредитов застройщикам, упрощения регулирования. Заметно активизировалось в последнее время и инфраструктурное строительство. В частности, началось, наконец, проектирование первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Санкт-Петербург». А всего в первом полугодии ОАО «РЖД», по данным Минстроя, получило 166 разрешений на строительство.
Китайцы, правда, создали еще одну зону роста для национальной экономики. Еще с 2016 г. там идут беспрецедентные по своим масштабам процессы модернизации промышленной базы. Практически все, что было построено на заре китайской индустриализации в 90-е и «нулевые» годы по принципу «числом побольше, ценой подешевле», сносится. А на месте старых цехов и энергоблоков строятся новые, по последнему слову техники. За счет этого загружается заказами и мощное китайское машиностроение.
В России такой трюк, увы, не провернешь. Нет у нас такой развитой отрасли по производству оборудования, чтобы поднять ее за счет тотальной модернизации. Хотя в некоторых отдельных секторах процессы обновления и нового строительства идут очень интенсивно. Это, например, нефтегазопереработка и химия, фармацевтика, судостроение, авиастроение, с недавних пор – электроника, отчасти – энергетика и энергомашиностроение. Но и там большую часть техники – тех самых средств производства – приходится ввозить из-за рубежа. Впрочем, когда-то, двадцать лет назад, и китайцы с этого начинали…
В целом, российские власти не слишком склонны давать живые деньги промышленникам. Скорее, они стараются создать условия для реализации крупных инвестиционных проектов. Но это не значит, что государственные средства не могут быть использованы в интересах экономического развития. Например, Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) продвигает идею широкомасштабного обновления коммунальных трубопроводных сетей. От такого мегапроекта, потянуть который под силу только государству, безусловно, выиграют именно отечественные производители.
Впрочем, как бы ни жаловались на объективные и субъективные трудности российские промышленники, многие из них очень даже успешно развиваются. Так, например, многие выступления на состоявшейся 13-14 августа конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» были посвящены тому, как компании нашли возможности успешно противостоять кризису.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

В конце июля — начале августа стоимость стальной продукции в Восточной Азии и Турции подскочила на $15-30 за т за две недели. Котировки на прокат и полуфабрикаты вернулись на уровень начала марта, а то и января текущего года. В частности, горячекатаный прокат добрался до $500 за т CFR, а заготовка отечественного производства приближается к рубежу $400 за т FOB.
В целом, на мировом рынке стали повторяется история 2009 г. Опять Китай выручает всех. Цены на стальную продукцию на местном рынке достигли максимальной отметки за последние 12-13 месяцев, а китайский импорт, рекордный с 2004 г. или рекордный вообще, поддерживает железную руду, чугун, полуфабрикаты и листовой прокат.
К началу августа погода в Китае, по мнению местных наблюдателей, нормализовалась. Никаких многодневных ливней и наводнений в масштабах целых провинций, как ожидается, в текущем году больше не будет. А значит, ничто не мешает стройке. По данным Platts, в августе в стране будет выпущено специальных облигаций на финансирование инфраструктурных и строительных проектов на общую сумму не менее 1 трлн. юаней ($144 млрд.). А по итогам всего текущего года объем этой целевой эмиссии достигнет около 3,75 трлн. юаней ($540 млрд.), что почти на 75% превысит показатель 2019 г. Продажи экскаваторов, которые считаются одним из важных индикаторов состояния строительного комплекса, в июле увеличились на 40% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
В Китае происходит строительный бум, сопровождаемый подъемом в металлургической промышленности. По данным компании Mysteel, крупные и средние заводы продолжают наращивать выпуск. Средний уровень загрузки мощностей меткомбинатов приблизился к отметке 95%. Стоимость железной руды на местной бирже DCE дошла до $130 за т по сентябрьскому контракту и превышает $115 за т по январскому.
Помимо Китая, неплохие результаты показывают Вьетнам (хотя в конце июля там произошла вспышка коронавируса) и Турция. Восстанавливается Индия, где увеличивается внутренний спрос на стальную продукцию. Даже в западных странах, которые сейчас дружно «пасут задних», наблюдаются определенные проблески. Так, например, в Великобритании продажи легковых автомобилей в июле превысили на 11,3% показатель аналогичного месяца прошлого года, т. е. на авторынке реализовался отложенный спрос. Континентальные европейские металлурги рассчитывают на повышение цен на листовой прокат на 30-40 евро за т после завершения периода летних отпусков.
Правда, тут еще вопрос: что стоит за наметившимся в последнее время повышением цен на ресурсы? В период коронавирусного карантина США и Евросоюз влили в свои экономики триллионы долларов и евро, и не все они пошли на компенсацию прямых потерь и надувание пузырей на фондовых рынках. Взлет цен на золото до рекордно высоких в истории $2060 за тройскую унцию, подъем серебра до максимальной отметки с начала 2013 г., подорожание платиновых металлов свидетельствуют о раскручивании инфляционных процессов в западных странах. А отсутствие в этом списке нефти, которая пока не может закрепиться даже на отметке $45 за баррель, говорит о том, что реальный сектор мировой экономики еще очень далек от восстановления.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

По предварительным данным ЕЭС России, в июле потребление электроэнергии в стране — один из важных экономических индикаторов — снизилось только на 2,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года против спада на 6% в июне и 5,5% в мае. Министерство промышленности обещает возвращение к докризисным показателям в сентябре. Заметно оживился строительный сектор, что обуславливает стабильный рост цен на арматуру и сварные трубы, а также недавнее повышение котировок на прокат с покрытиями.
Безусловно, дела не везде хороши. Так, почти два месяца не могут подняться рыночные цены на непокрытый листовой прокат и фасон. У предприятий мало денег, нет уверенности в будущем, поэтому и спрос на инвестиционные товары остается недостаточным. Далеки от восстановления и отрасли по выпуску потребительских товаров длительного пользования. Так, производство легковых автомобилей в первом полугодии упало на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в июне спад составил 24,1%. И далеко не факт, что автозаводам удастся выйти в ноль хотя бы к концу текущего года.
В последних числах июля неожиданно упал курс рубля, хотя по всему остальному миру снижается, наоборот, доллар. Однако это произошло, скорее, под действием краткосрочных факторов, относящихся исключительно к денежному рынку. Экономических составляющих у этого ослабления отечественной валюты почти нет. Правда, несколько смущает то, что на фоне рекордно высоких в истории цен на золото, повышений на рынках меди и никеля откровенно тормозит нефть. Ее в мире пока что более чем достаточно.
В начале прошедшей недели произошло некоторое понижение в Китае, но к самому концу июля дела там выправились. В правительстве пообещали подготовить к октябрю еще одну эмиссию специальных облигаций для финансирования региональных инфраструктурных проектов. Таким образом, общий объем их выпуска по итогам текущего года достигнет 3,75 трлн. юаней (около $535 млрд.).
Вследствие этого в Китае ждут нового подъема в инфраструктурном строительстве. А металлургические компании уже сейчас наращивают производство. По оценкам консалтинговой компании Mysteel, по состоянию на 24-30 июля средний уровень загрузки мощностей меткомбинатов достиг 94,5%, что представляет собой рекордный показатель, по меньшей мере, с 2018 г.
Индекс PMI в китайской промышленности по итогам июля превысил 51 пункт и достиг наивысшего значения с апреля, а в строительстве данный показатель вообще составил 60,5 пункта. Помимо Китая, улучшают свое состояние многие страны Юго-Восточной Азии, а также Индия. Правда, вспышка коронавируса была зарегистрирована во Вьетнаме, и это, очевидно, оказало негативное воздействие на региональный рынок стали.
Тем не менее, цены на листовой прокат и заготовку росли в Азии в течение второй половины июля и имеют шансы продолжить повышение в августе. Главное, чтобы не произошло спада в Китае, который поддерживает региональный рынок, импортируя стальную продукцию. Сейчас стоимость проката в КНР выше, чем за рубежом, поэтому китайским компаниям выгодно закупать его у иностранных поставщиков. А за счет этого дополнительные возможности для сбыта получают металлургические компании из стран АСЕАН, Индии и России.
Цены на стальную продукцию поднимаются и в Турции. За неделю стоимость металлолома в стране увеличилась еще более чем на $5 за т. Это должно поспособствовать прибавке и в секторе заготовки. Турецкая строительная отрасль определенно вышла из кризиса, к тому же, местные компании смогли возобновить поставки сортового проката в Восточную Азию. Правда, из-за введения квот в Евросоюзе турецким производителям пришлось сократить экспорт горячекатаного проката, который соответственно в более значительных объемах продается внутренним потребителям.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Китай, Китай и еще раз Китай. Это он продолжает определять обстановку на мировом рынке стали. Повышение цен на стальную продукцию, приостановившееся в конце июня — начале июля, а теперь возобновившееся, это, в первую очередь, его заслуга. В очередной раз Китай показывает всему миру мастер-класс, как надо стимулировать экономический рост. У этого процесса много составляющих. Прежде всего, это наличие фронта работ. КНР порой критикуют за «города-призраки», пустые аэропорты и многополосные автострады, ведущие из ниоткуда в никуда. Однако в стране еще есть, что строить.Так, еще далеко не все китайцы обеспечены нормальным жильем. Недостаточно густа железнодорожная сеть — за текущий год ее планируется расширить более чем на 4,4 тыс. км. Только начался процесс газификации северо-восточных провинций, необходимый, чтобы заменить чадящие угольные печки современными газовыми бойлерами и перевести котельные на более экологичное топливо.Китайская промышленность проводит перманентную модернизацию. Так, в стране фактически строится новая металлургическая отрасль, призванная заменить те предприятия, что были введены в строй всего лишь 12-17 лет тому назад. Но тогда Китай был другой, на многие заводы устанавливалось американское или европейское б/у оборудование. Сейчас новые предприятия возводятся по последнему слову техники. И даже если печи и прокатные станы заказываются у ведущих европейских компаний, большая часть комплектующих будет изготовлена в самом Китае.Очень важная вещь — ресурсы. В Китае есть мощности по производству почти всего, что только можно представить. Есть, конечно, и здесь критический импорт, и отставание в некоторых хайтечных направлениях, но «ан масс» страна фактически находится на самообеспечении. Безусловно, зависимость от импорта сырья и продовольствия — серьезная уязвимость, но, наверное, лучше покупать за рубежом нефть, железную руду, сою и свинину, чем промышленную продукцию. При этом важно не только то, что в Китае есть заводы и станки, но и то, что имеются люди, умеющие и желающие на них работать.
Между тем, в самой России рынок, по большому счету, стагнирует. Дорожают только сварные трубы, где в роли локомотива по-прежнему выступает профильная продукция малых размеров. Дефицит в этом сегменте, похоже, сохранится и в августе. Чуть лучше стало в последнее время и с оцинкованной сталью. Однако с горячекатаным прокатом, фасоном — все глухо. Повышение спотовых цен на арматуру сильно затормозилось. Объявленное еще в прошлом месяце поднятие заводских котировок по июльским контрактам до сих пор остается под вопросом. А анонсированная на август прибавка еще около 1 тыс. руб. за т вызывает еще большие сомнения.ри этом никак нельзя сказать, что у нас ничего не происходит. Наоборот, прошедшая неделя выдалась очень бурной. Президент подписал указ о национальных целях развития на период до 2030 г. Премьер-министр выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства. Сам парламент принял ряд важных законов, в частности, о регуляторной политике и о предоставлении льгот российским производителям в госзакупках. Во всех этих словах и действиях просматривается четкая ориентация на развитие человеческого капитала страны, на совершенствование здравоохранения и образования, на сохранение мощной социальной составляющей. В экономике правительство стремится облегчить и ускорить запуск и реализацию инвестиционных проектов, развернуть инфраструктурное строительство, поддержать несырьевой экспорт, повысить эффективность бизнеса и производительность труда, в частности, за счет цифровизации. При этом называются сроки разработки и утверждения важнейших законов, программ и планов — август, осень, до конца года, начало 21-го… То есть, мы пока еще запрягаем, а наш бронепоезд стоит… ну, не на запасном пути, но где-то на перроне.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Середина июля прошла на мировом рынке стали под влиянием Китая. Обнародованная статистика за июнь и второй квартал продемонстрировала, что страна действительно преодолела спад, спровоцированный эпидемией коронавируса, которая накрыла Китай в феврале-апреле, а теперь стремится возместить упущенное. Рост ВВП во втором квартале 2020 г. составил в Китае 3,2% — больше, чем ожидали зарубежные специалисты. С учетом спада на 6,8% по итогам первого квартала это дало -1,6% в целом за полугодие. Но, если не случится ничего катастрофического, по итогам текущего года Китай должен выйти в плюс.За счет чего китайцы смогли развернуть свою экономику вверх почти сразу же после снятия большей части карантинных ограничений, чего больше не удалось сделать никому в мире? Прежде всего, благодаря созданию нового спроса. В январе-июне китайские банки прокредитовали китайскую экономику на 12,09 трлн. юаней ($1,72 трлн.), перекрыв показатель аналогичного периода прошлого года (к слову сказать, тоже тогда бывший рекордным) сразу на 25%. Объемы внебанковского финансирования, например, за счет эмиссии облигаций местными органами власти, в конце июня достигли 3,43 трлн. юаней ($490 млрд.), на 12,8% больше, чем год назад.Однако следует отметить, что нынешний мировой рынок стали буквально вертится вокруг Китая. И дело даже не в том, что в апреле-мае на долю КНР приходилось более 60% выплавки стали в мире. Китай сейчас фактически дирижирует рынком. Есть спрос со стороны местных компаний — есть оживление во всем мире и какое-никакое повышение цен. Но как только китайцы приостанавливают закупки, оказывается, заменить их некому.
В России по-прежнему пользуются высоким спросом и дорожают трубы. На улицу их производителей таки пришел праздник, который, возможно, будет продолжаться до конца лета. Медленно идет вверх арматура, появились шансы на повышение у поставщиков оцинкованной стали. Но за пределами нескольких относительно благополучных секторов продолжается стагнация. Спрос на стальную продукцию, в принципе, есть, но недостаточный. Из-за этого, в частности, у дистрибьюторов не получается поднять спотовые котировки на горячекатаный прокат, хотя металлургические компании объявили подорожание (к слову, весьма умеренное) по июльским контрактам.Приходится признать: быстрого восстановления российской экономики не получится. Но постепенное вполне даже происходит, с посильной помощью государства. Например, стартует крупнейший автодорожный проект в стране — прокладка новой трассы «Москва — Казань» с дальнейшим продлением до Екатеринбурга. Правда, состоится это только к 2030 г., но и национальные проекты у нас продлеваются на шесть лет до той же даты.Вообще, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, до середины 20-х гг. планируется реализовать семь крупнейших транспортных проектов совокупной стоимостью более 9 трлн. руб. Их задача — ликвидировать наиболее проблемные «узкие места» во внутренних и экспортных грузоперевозках. Важнейшую роль здесь играют развитие Северного морского пути, увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба, расширение транспортной сети на подходам к балтийским и черноморским портам.Это означает, что одним из приоритетных источников экономического роста России должен стать экспорт, причем не только сырьевой, но и продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Но для этого нашей стране необходимы процветающая мировая экономика, экономическая и политическая стабильность на международном уровне. Сейчас ничего этого нет и близко, наоборот, ситуация обостряется. Впрочем, планы развития России имеют долгосрочный характер, а любой кризис имеет не только начало и кульминацию, но и конец.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»
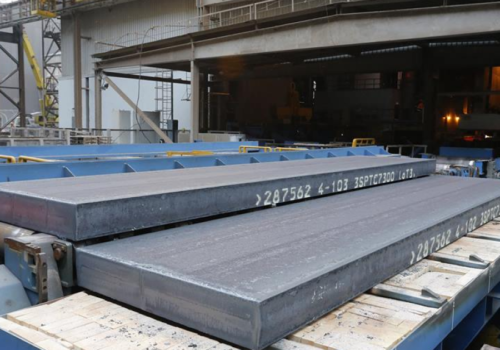
На мировом рынке стали продолжается пауза со стабильными или медленно снижающимися ценами. В России котировки тоже не сильно куда-то движутся, но тут выбор между стагнацией и небольшим ростом. У большинства участников рынка настроения никак нельзя назвать оптимистичными. Коронавирус не удалось победить. В некоторых странах снова вводятся карантинные меры. Усиление эпидемии приводит к ухудшению экономических ожиданий. По данным широкомасштабного опроса, проведенного Reuters и компанией Refinitiv, в 2020 г. крупные и средние компании сократят капиталовложения на 12% по сравнению с прошлым годом. Это хуже, чем было в 2009 г., тогда спад составил 11,3%. Самые большие потери должны понести энергетика, включая добычу энергоносителей, производство потребительских товаров и сектор недвижимости. Здесь падение инвестиций оценивается соответственно в 25; 23 и 20%. Впрочем, опрос не затрагивает сферу услуг, где обвал, по данным других исследований, может превышать и 80%. Американские компании в текущем году снизят капиталовложения на 22%, российские, согласно данным опроса, — на 19,2%.
Покупательская активность на мировом рынке стали в последние несколько недель упала. Прежде всего, приостановили импорт стальной продукции китайские компании. Уменьшились закупки во Вьетнаме. Завершилось оживление в Турции, а в других странах Ближнего Востока оно так и не наступило. При поставках в Евросоюз некоторые страны уже полностью использовали свои квартальные квоты на экспорт арматуры, катанки и горячекатаного проката. Местные компании даже смогли приподнять цены благодаря ослабления конкуренции со стороны зарубежных производителей.
Российские металлурги пока удерживают экспортные котировки на свою продукцию, но объемы продаж у них упали до минимума. К тому же, возросли тарифы на фрахт, что сделало невыгодными отправку проката и полуфабрикатов с Черного моря на Дальний Восток. Если в ближайшее время не произойдет чего-либо из ряда вон выходящего, отечественным экспортерам, скорее всего, придется пойти на уступки.
Между тем на общем фоне ярко выделяется Китай. На прошлой неделе котировки на прокат на Шанхайской фьючерсной бирже и железную руду на даляньской DCE достигли новых максимальных отметок с августа прошлого года. Да и на фондовом рынке произошел подъем курсов акций китайских компаний.
Текущая ситуация на российском рынке тем временем не дает больших поводов для оптимизма. Хотя все в общем стабильно, спрос есть, цены медленно, но растут, но не хватает устойчивости и уверенности в будущем. Фактически на споте повышение затрагивает только два сегмента — арматуру и сварные трубы. А вот горячекатаный прокат поднимается с большим трудом. Не исключено, что в итоге металлургическим компаниям придется отказаться от уже объявленного на июль подорожания листа.
Строительный сектор выводят из кризиса с помощью государственной поддержки. Субсидируются ипотечные кредиты, снижается ставка для девелоперских компаний, облегчается регулятивный режим. Постепенно стартуют инфраструктурные проекты, анонсированные еще в 2018-2019 гг. По большей части, это дорожное строительство. Однако на ближайшие месяцы результатом всех этих мер будет, в лучшем случае, возвращение на уровень прошлого года. В глубокой депрессии остается сектор коммерческого строительства.
Вот и получается, что все основные металлопотребляющие отрасли российской экономики — стройка, автомобилестроение, производство метизов, труб, бытовой техники — покажут в текущем году спад или стагнацию по сравнению с 2019 г. Поэтому общего сужения спроса на стальную продукцию будет сложно избежать.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

На мировом рынке стали первая половина июня выглядела оптимистичной. Спрос увеличивался, цены росли. Но сейчас, когда июнь практически подошел к концу, дела выглядят не так благополучно, даже если не учитывать эпидемиологическую обстановку.В конце июня снизилось видимое потребление стальной продукции на самых активных рынках — в Китае, Вьетнаме и Турции. Прежде всего, их просто насытили. Закупки в первой половине месяца удовлетворили отложенный спрос и позволили потребителям создать запасы на ближайшее будущее. А закладываться на более отдаленную перспективу сложно. Ведь если коронавирус снова наступает, политическая борьба в США будет продолжаться, как минимум, до ноября, а, скорее всего, и позже, то какая тут может быть уверенность в будущем?!
Второй фактор — сырьевой. Цены на металлолом прошли через свой локальный пик и начали опять снижаться. В Турции его стоимость пока уменьшилась только на $10-12 за т по сравнению с максимальными отметками двухнедельной давности, но она, очевидно, будет падать и дальше. По крайней мере, арматура в стране дешевеет. Японски й металлолом за последние две недели понизился на $20-25 за т. Как говорится, заготовке на Дальнем Востоке приготовиться.
Наконец, определенное влияние на рынки оказывает сезонный фактор. Где-то это жара, негативно воздействующая на стройки. В Азии — дождливый сезон, играющий аналогичную отрицательную роль. Некоторые районы Китая заливает, там наводнения. Рассчитывать на существенное расширение спроса можно будет только ближе к осени.
Впрочем, как бы там ни было, на Китай можно и нужно надеяться. Там и до начала кризиса проводились беспрецедентные по своим масштабам работы по модернизации промышленности. По оценкам Platts, только за вторую половину текущего года в строй должны войти мощности по выплавке 61 млн. т чугуна и 83 млн. т стали в год. Причем, за немногими исключениями, эти новые доменные и электродуговые печи, конвертеры, МНЛЗ и прокатные станы должны заменить выводимые из строя устаревшие производственные линии.
Не менее радикальная перестройка проводится в Китае и в других отраслях, в частности, в алюминиевой, цементной, угледобывающей промышленности, энергетике. И каждый такой проект — это масса заказов для китайских же производителей оборудования, комплектующих и материалов. В таких условиях не удивительно, что коронавирус и падение экспортных заказов стали для китайской экономики достаточно серьезными, но в целом преодолимыми неприятностями. При всей своей интегрированности в мировую экономику Китай достаточно успешно решает задачу по замещению внешнего спроса внутренним.
Кроме того, Китай по старой привычке делает ставку на инфраструктуру. Страна большая, развернуться там еще есть, где. При этом если ранее китайцы запускали всякие пафосные «мегастройки» наподобие самых длинных в мире мостов и самых быстрых железнодорожных поездов, то сейчас речь идет о множестве сравнительно небольших проектов на локальном уровне. Кстати, то же самое планируется и в России, только с некоторым уклоном в автодорожное строительство, тогда как китайцы строят, по большей части, железные дороги, метро и аэропорты.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Обстановка в мире сейчас нестандартная. В апреле-мае падало все, а сейчас восстанавливается, только по-разному и с различной скоростью.Металлургические компании в трудную минуту смогли заместить выпавший внутренний спрос экспортными продажами. И теперь самое главное – не допустить резких движений, не погасить начинающийся рост покупательской активности внезапными скачками цен и не перетягивать на себя одеяло.
В ближайшую неделю темой номер один, безусловно, будет парад 24 июня, за ним последует голосование по поправкам в Конституцию. А затем на первый план неизбежно выйдет экономика. Уже в июле будут запущены первые мероприятия в рамках восстановительной программы, которая сейчас, очевидно, проходит завершающую отладку. Центральный банк РФ опустил ключевую ставку до рекордно низкого значения – 4,5%. Дальше многое будет зависеть от государства – от объема денег, которые оно станет вливать в реальный сектор экономики, и от того, как полезно и эффективно удастся эти средства потратить.
Не менее важную роль будут играть в ближайшие месяцы крупные компании – государственные и частные. От них ждут новых инвестиций несмотря на снижение доходов и не самую благоприятную конъюнктуру. Однако иногда следует поступать вопреки краткосрочной выгоде. Рынок надо приводить в движение, запускать после трехмесячного карантина, иначе мы все будем выбираться со дна медленно и долго. И, само собой, верить в будущее. Уверенность – это сегодня самый ценный ресурс вместе со взаимным доверием.
Именно такую уверенность демонстрирует сейчас Китай. В местной экономике, конечно, есть свои проблемы, недавняя вспышка коронавируса в Пекине показывает, что война с эпидемией еще не выиграна, а в политике всегда есть риски дальнейшего усиления конфронтации со США и другими западными странами. Но в мае китайские металлурги выплавили рекордные объемы стали, впервые в истории превысив отметку 90 млн. т в месяц, и уверены, что она будет востребована на национальном рынке. Причем, предварительные данные за первую половину июня показывают, как минимум, неухудшение обстановки в отрасли. При этом никаких «суперпрограмм» общенационального значения китайское руководство не принимало. Многие проекты в стране запускаются на региональном уровне.
В то же время, металлолом пока остается в дефиците, особенно, в западных странах, где важным источником данного сырья выступают промышленные отходы металлообрабатывающих предприятий, обслуживающих, главным образом, автопром и производство оборудования. А эти отрасли, скорее всего, будут выходить из кризиса дольше всех. И в России, и во многих других странах мира автомобилестроение демонстрирует наибольший спад на потребительском рынке, а ожидаемое на текущий год падение капиталовложений, вероятно, будет исчисляться десятками процентов. У нас эту проблему, вероятно, удастся решить с самым крупным бизнесом, но у среднего, а особенно, мелкого на ближайшие месяцы безусловным приоритетом станет просто выживание.
Вообще, рынок лома очень красноречиво иллюстрирует неоднозначность и противоречивость текущей ситуации. Поступления качественного промышленного лома везде сократились, но дефицит не обязательно означает роста цен. Например, в Японии премия на качественные сорта по сравнению с рядовым Н2 уменьшилась вследствие остановки электропечей в Корее, которые ранее его использовали. А вот в США она, наоборот, возросла до наивысшего уровня с 2018 г., потому что американские металлургические компании уже начали возвращать в строй мощности, а качественного лома для них не хватает. По оценкам местных трейдеров, сборы в июне будут составлять не более 50-60% от прошлогодних.
В Турции и Вьетнаме цены на металлолом уперлись в потолок. Дальше им не дают расти слишком медленно поднимающиеся котировки на готовый прокат. В Италии лом в июне вопреки общемировой тенденции подешевел – там пока толком не восстановилась строительная отрасль, спроса на стальную продукцию недостаточно. А индийские и бангладешские компании уходят с рынка, потому что количество заражений в этих странах снова увеличилось, и металлурги боятся прихода новой волны коронавируса. Впрочем, как считают некоторые комментаторы, на этот раз объявлять жесткий карантин никто не будет, поскольку экономика этого просто не выдержит.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Цены на мировом рынке стали снова растут (хотя и не везде), в России металлотрейдерам, похоже, удалось нащупать дно, что дает им возможность пройти июнь с положительной маржой по многим видам стальной продукции. Спрос пока сильно отстает от прошлогодних показателей, но в целом увеличивается.
Однако говорить о том, что мы уверенно встали на путь восстановления, преждевременно. Тем более, что в последнее время в окружающем нас мире добавилось странностей с переходом в настоящее безумие. И дело не только в том, что американский «майдан» протянул свои метастазы в Европу. Такое впечатление, что мировую экономику придерживают, не давая ей возможность ускорить восстановление.
В начале второй декады июня цены на нефть и биржевые котировки акций понизились под влиянием новой серии негативных макроэкономических прогнозов. В частности, Мировой банк ожидает, что в текущем году глобальный ВВП уменьшится на 5,2% по сравнению с предыдущим годом, что представляет собой очень серьезный спад. А в США, по оценкам ФРС, экономика испытает снижение на 6,5%.
Продолжается спад в Западной Европе, которая, по оценкам всех экспертов, окажется в текущем году в эпицентре кризиса. Спрос на стальную продукцию, автомобили, нефть, другие энергоносители, как ожидается, упадет там больше, чем в других регионах. Впрочем, это сомнительное первенство могут оспорить у нее некоторые страны Латинской Америки, где действительно сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом.
В Восточной Азии листовой прокат также достиг наивысшей отметки за без малого три месяца. Некоторые компании прогнозируют на сентябрь подорожание горячекатаных рулонов с поставкой во Вьетнам до $470-480 за т CFR. Это конечно, меньше, чем в начале текущего года, но по нынешним временам тоже неплохо.
Однако предел ценовому росту в Азии может поставить Китай. Местные компании охотно приобретают полуфабрикаты и горячекатаный прокат за рубежом, но весьма чувствительны к его стоимости. Пока железная руда стоит в Китае дороже $100 за т CFR вследствие сокращения ее добычи в Бразилии, стальная продукция также будет расти в цене. Но стоит китайцам приостановить или даже уменьшить объемы импорта, и котировки сразу отступят вниз. В частности, именно по этой причине в конце прошлой недели в Восточной Азии опять подешевела заготовка.
Российским экспортерам с начала июня удалось поднять свои экспортные котировки на $20-30 за т, но возможность дальнейшего повышения выглядит пока достаточно проблематичной. Беспорядки, охватывающие западные страны, отодвигают на второй план экономику, которая только начала выбираться из кризиса. Май был лучше апреля, но все-таки очень сложным месяцем, хотя режим карантина к тому времени был ослаблен. И прогнозы насчет июня тоже пока не блещут оптимизмом. Многие специалисты осторожно рассчитывают на улучшение в третьем квартале, но при условии, что в экономику не вмешаются ни вторая волна коронавируса, ни политика.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Наступило лето, все пришло в движение и пошло в рост. События ускоряются. Начались не до конца еще понятные перемены, которые могут привести к очень серьезным последствиям – и в экономике, и в политике.Эти изменения, безусловно, несут с собой новые опасности. Чего стоят, например, США, которые и раньше напоминали обезьяну с гранатой, а сейчас к хвосту этой обезьяны еще и привязали разгорающийся факел!
На рынке стали ситуация двойственная. С одной стороны, спрос на стальную продукцию продолжает увеличиваться. Цены идут вверх или, как минимум, перестали падать. Особенно радует Азия, где стоимость стальной продукции вернулась на уровень марта. Заготовка по $400 за т CFR, горячекатаный прокат более чем по $430 за т – живем же! А еще и тарифы на доставку этой продукции из черноморских портов в Китай снизились более чем на $15 за т по сравнению с докризисным уровнем.
Однако, с другой стороны, все эти достижения пока что стоят на довольно непрочном фундаменте. Подорожание стальной продукции в Китае, чьи компании активно покупают за рубежом полуфабрикаты и горячекатаный прокат, напрямую связано с подъемом цен на железную руду, которая всю прошлую неделю стояла у отметки $100 за т CFR. А она, в свою очередь, подскочила вследствие обострения коронавируса в Бразилии, сильно затронувшего северо-восточные штаты страны, где сосредоточено больше трети национальных мощностей по добыче железной руды.
Безусловно, покупать стальную продукцию в июне стали больше, чем в предыдущие два месяца. Помимо Китая, есть Вьетнам, тоже благополучно справившийся с коронавирусом. Есть Турция, выходящая из карантина, в чьей экономике началось оживление. Даже на российском рынке взлетели вверх цены на трубы малых размеров, которые внезапно оказались в дефиците при сработавшем эффекте отложенного спроса. Очевидно, в ближайшее время стоит ожидать прекращения спада по всему спотовому рынку проката. Но если сравнивать не с апрелем-маем, а с прошлым годом, обстановка по-прежнему весьма скверная.
Ассоциация Worldsteel, как и обещала, выпустила в начале июня свой краткосрочный прогноз на 2020-2021 гг. В нем она предсказывает для Китая увеличение внутреннего потребления стальной продукции на 1% по сравнению с прошлым годом, для прочих новых рыночных и развивающихся стран – спад на 11,2%, а для западных государств – на 17,8%.
Как признает Worldsteel, кризис в западных странах стартовал еще во второй половине 2019 г. А весной текущего, можно сказать, состоялся всемирный слет «черных лебедей», которые обвалили и обгадили все, что только можно. Теперь на многие месяцы вперед мировую экономику ждут последствия обвала потребительского спроса и обрушения инвестиций, что особенно сильно и негативно скажется на автопроме и производстве промышленного оборудования.
При этом возможности государств, чтобы запустить рост посредством капиталовложений в новые проекты, будут крайне ограничены – все и так очень сильно потратились на смягчение последствий карантина. Даже относительно благополучный в этом плане Китай не стал принимать какой-то новой антикризисной мега-программы по образцу 2009 г. Ставка делается на реализацию тех инфраструктурных проектов, что задумывались еще до эпидемии.
Вообще, каждый выбирается из ямы, как может. В Индии, где была принята программа экономического стимулирования на $266 млрд., во главу угла поставлены импортозамещение и поддержание доходов сельского населения. США по своей привычке заливают все деньгами, скупая ценные бумаги с рынка и выплачивая пособия и компенсации. Основной вопрос здесь заключается лишь в том, как и когда прекратить этот аттракцион неслыханной щедрости, пока за доллар еще не стали давать в морду.
В Евросоюзе, давно и прочно сдвинутом на теме борьбы с глобальным потеплением, решили совестить приятное с полезным. В рамках антикризисной программы там будут поддерживаться, главным образом, «климатически правильные» отрасли наподобие установки ветряков и производства электромобилей. Традиционным производителям предложено срочно «зеленеть» или сосать лапу.
Не осталась за обочиной антикризисного процесса и Россия. В первых числах июня свет увидел документ под названием «План восстановления экономики России». Рассчитанный до конца 2021 г., он включает без малого 500 мероприятий по поддержке граждан и бизнеса. Его основные направления – дальнейшая цифровизация экономики с широким и интенсивным внедрением электронных сервисов во все сферы жизни, стимулирование инвестиций, импортозамещения и экспорта.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Сегодня яркое событие для нашей организации — день рождения нашего предприятия! Поздравляем всех сотрудников. Желаем прогресса в делах, развития и покорения новых горизонтов. Успеха, самореализации, усовершенствования и удовлетворения от своего труда. Хорошего настроения, дружного и сплоченного коллектива, всегда готового помочь и поддержать. Достатка и больших результатов!

Прекрасен мир, где звучит звонкий смех детей. Как грибочки в лесу, быстро растут наши детки. Наш долг защищать детей всей планеты от бед и зла, беречь их мирное детство. Сегодня самый прекрасный праздник, день защиты детей. Дорогие наши девочки и мальчики, живите в счастье и добре. Желаем вам крепкого здоровья, огромных успехов во всём. Пусть мирное солнышко дарит вам свои лучики тепла. Пусть ваши розовые мечты превращаются в реальность. Пусть наша любовь всегда согревает вас, мы во всём готовы вас поддержать.

Начнем с того, что мы точно имеем в наличии. В частности, с данных Росстата. В соответствии с ними, промышленное производство в апреле сократилось на 6,6% по сравнению с тем же месяце прошлого года. При этом спад в обрабатывающих отраслях достиг 10%. Производство легковых автомобилей упало на 79,2% по сравнению с апрелем 2019 г., прочих транспортных средств – на 39,4%, электрического оборудования – на 28,4%. Железнодорожные перевозки черных металлов уменьшились на 19%, правда, само производство стали – только на 1,5%.
Металлургические предприятия, особенно, крупные и находящиеся недалеко от портов, утверждают, что чувствуют себя вполне неплохо. Сокращение внутреннего потребления они в целом смогли компенсировать за счет экспортных заказов. В последние несколько недель на внешнем рынке несмотря на все кризисные явления пользовались спросом полуфабрикаты, горячекатаный прокат и даже арматура и катанка отечественного производства. При этом металлурги рассчитывают, что экспорт будет выручать их и дальше, ведь большинство стран ослабляют свои карантинные ограничения, и спрос на стальную продукцию там восстанавливается.
В принципе, это так, но на этой «торной дороге», как всегда, имеются несколько малозаметных ухабов. Прежде всего, в настоящее время мировой рынок стали как никогда сильно зависит от Китая. Крупнейший в мире экспортер в последние месяцы играет роль импортера, обеспечивая сбыт российским поставщикам товарного чугуна, заготовки, слябов и горячекатаного проката. На данном рынке также широко представлены индийские и иранские компании.
Однако почему Китай вдруг повернул вспять свои товарные потоки? По самой простой причине – цены на внутреннем рынке сейчас более высокие, чем на мировом. Причем не потому, что Китай как-то вырос. Наоборот, упали все остальные.
Стоимость арматуры в Китае составляет в последнее время около $430-445 за т без НДС. Товарной заготовки – более $400 за т. Все бы неплохо, но металлолом в Китае – под $300 за т. Местный рынок из-за общего запрета на импорт промышленных отходов варится в собственном соку, вариантов расширения объемов предложения за счет закупок за рубежом нет. Поэтому многие китайские электрометаллургические предприятия простаивают, а прокатчики и даже мини-заводы готовы импортировать полуфабрикаты, пока они стоят не более $370-385 за т CFR. Станут дороже – интерес мигом пропадет.
Точно такое же соотношение – и на китайском рынке горячекатаного проката. Он тоже поставляется местными производителями по $430-440 за т без НДС. И некоторым покупателям из портовых городов, где рядом нет «своего» меткомбината, весьма привлекательно привозить аналогичную продукцию из-за границы, пока она стоит около $400 за т CFR. Все равно, во внутреннем потреблении горячекатаного проката доля импорта не превышает нескольких процентов.
В общем, Китай покупает стальную продукцию за рубежом, пока она дешева. Может ли она подорожать на его собственном рынке? В принципе, да. Скажем, вслед за железной рудой, которая к концу прошлой недели скакнула до более $100 за т, прибавив порядка 20% по сравнению с началом текущего месяца. Причем для такого скачка были объективные причины – а именно, вспышка коронавируса в бразильском штате Пара, где корпорация Vale добывает более трети железной руды. По этой причине она предупредила, что в 2020 г. ее клиенты могут недосчитаться 20-30 млн. т ЖРС.
Тем не менее, Китай так или иначе устанавливает «потолок», выше которого ценам на стальную продукцию не прыгнуть. А будут ли они вообще стремиться к этому пределу, во многом зависит от Индии. В апреле местное производство стали из-за карантина упало почти на 70% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но потребление обрушилось более чем на 90%. В мае индийские металлурги начали возвращаться к жизни, а вот национальный рынок стали – не совсем. Для половины городского населения страны жесткие ограничения продлены до 31 мая. На минимальной отметке остается спрос на автомобили и бытовую технику. А строительный сектор, по мнению местных экспертов, только приступит к выходу из комы лишь после завершения дождливого сезона в октябре.
о этого времени индийская металлургия будет всецело экспортно ориентированной. В апреле-мае национальные меткомбинаты, работая с 30-40%-ной загрузкой, не вызвали избытка предложения листового проката в Азии и странах Персидского залива. Но если летом они увеличат выпуск, то вполне могут перегрузить региональный рынок.
Еще одна группа рисков связана с Евросоюзом. Местная промышленность медленно и тяжело выходит из кризиса. Прежде всего, на дне лежит автопром, а это, на минуточку, более 30% регионального спроса на стальную продукцию. Ненамного лучше дела у производителей оборудования – у них обвалились новые заказы. Сейчас, в кризис, все «режут косты», и первыми под нож идут программы капиталовложений. Очень плохи дела с потребительским рынком. И, как подозревает региональная ассоциация Eurofer, спрос на металл в Европе сможет хотя бы приблизиться к докризисному уровню не раньше 2021 г.
В связи с этим европейские металлурги усиленно лоббируют кардинальное урезание импортных квот, начиная с июля. Кроме того, Европейская комиссия начала антидемпинговое расследование против турецкого горячекатаного проката. Если демпинговая маржа будет определена на достаточно высоком уровне, это будет настоящее потрясение для всего регионального рынка. Сами турки тоже включили протекционистский режим, подняв пошлины на ряд видов стальной продукции до 10-15%, причем на страны ЕС и Балканского полуострова эти меры не распространяются.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

По данным консалтинговой компании Mysteel, в период с 8 по 14 мая средний уровень загрузки мощностей китайских меткомбинатов составил чуть меньше 90%, что стало наивысшим значением за последние 11 месяцев. Видимый спрос на стальную продукцию, особенно, строительного назначения действительно очень высокий. Цены на местном рынке на 5-8% ниже докризисного уровня, но стабилизировались еще в марте и не собираются снижаться. Так что, если в апреле производство стали в стране на 0,2% отстало от показателя аналогичного месяца годичной давности, то май, вполне вероятно, покажет рост.
Однако Китай у нас большой, но только один. В других странах быстрого восстановления не ждут и не надеются. Европейская металлургическая ассоциация Eurofer сообщила, что рассчитывает на возвращение регионального рынка к докризисным показателям не ранее конца 2020 — начала 2021 г. Российская группа «Русал» допускает, что алюминий может снова увидеть свое «светлое прошлое» в 2022 или даже 2023 г. По нефти никто даже не решается делать такие долгосрочные прогнозы. Как отмечают некоторые оптимисты, если к концу текущего года баррель дойдет до $40, это будет вельми круто.
А вот в США, где львиная доля ВВП создается именно в нематериальной сфере, а значительная часть реального сектора обслуживает потребительский рынок, официальная безработица уже достигла почти 25% и продолжает расти. Поэтому там раздача денег населению — единственная возможность избежать полного обвала. Но чем закончится этот эксперимент, и не приведет ли он в итоге к гиперинфляции, сказать сложно. Пока дефицит заработков и покупательской способности успешно покрывается свеженапечатанными долларами, но не факт, что с их помощью можно будет снова запустить экономику, когда придет время выходить из карантина.
Россия в этом плане находится в промежуточном положении. Доля реального сектора в ВВП у нас пониже, чем в Китае, но больше, чем в западных странах. Карантин длится уже более полутора месяцев и только начал ослабевать, поэтому ущерб им нанесен весьма значительный. Особенно, в тех регионах, где местные власти увлеклись запретами, не позволяя работать промышленным предприятиям и стройкам и выставляя блок-посты на дорогах.
На телеконференции по рынку металлолома, которая была проведена 15 мая ассоциацией РУСЛОМ.КОМ, были озвучены данные по сборам металлолома в различных регионах России. Спад в апреле по сравнению с мартом был зафиксирован везде. Но в одних местах он составил 10-20%, а в других — порядка 80%, в зависимости от запретительского рвения на локальном уровне. Впрочем, так или иначе, везде практически прекратились поступления лома от физических лиц, т. е. населения. Сократился сбор лома на промышленных предприятиях. Одни не работали во время карантина и не создавали отходов, другие перестали обновлять свои основные фонды и не отправляли старое оборудование и металлоконструкции на переплавку.
И вот именно последнее представляет собой наибольшую проблему. Можно ввести меры поддержки для строительной отрасли или начать новые инфраструктурные проекты. Так, например, сделали в Китае и собираются сделать в Индии, где озвучена своя программа стимулирования экономики объемом 20 трлн. рупий (почти 20 трлн. руб.). Можно вспомнить опыт 2015 г. и снова запустить программу субсидируемого обмена старых автомобилей на новые. Но что делать с тем, что компании вынуждены урезать инвестиционные бюджеты, спрос на новые квартиры к маю упал на 30% по сравнению с прошлым годом, а покупки новых машин могут сократиться в текущем году на 40-50%?! Государство, конечно, может чем-то помочь, но не будет же оно раздавать всем деньги для покрытия текущих потребностей?! Не при коммунизме, чай, живем…
Падение потребительского и инвестиционного спроса вследствие административно-санитарного выключения целых отраслей экономики во время карантина — и есть тот самый тяжелый груз, который придавливает книзу все макроэкономические графики, приводя их в форму буквы «Зю», то есть, конечно же, «L».
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»
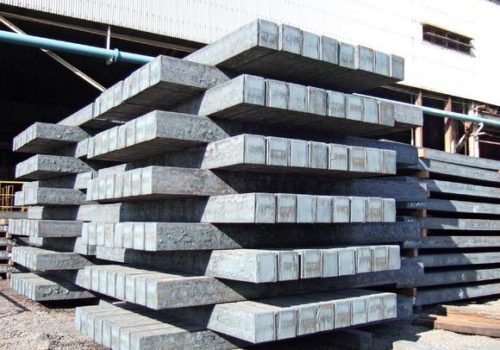
Избыточные запасы к началу мая превратились в серьезную проблему и на российском рынке стальной продукции. Дистрибьюторы, столкнувшиеся с падением видимого спроса, сократили закупки на заводах. А металлургическим предприятиям, со своей стороны, приходится снижать загрузку своих производственных мощностей или переводить их в циклический режим. Больше всего просел, пожалуй, рынок сварных труб малого и среднего диаметра, потребность в которых в конце апреля – начале мая составляла не более 50% от прошлогоднего уровня. Ряд компаний вообще приостановили выпуск данной продукции.
В Западной Европе, США, Индии, Турции восстановление происходит достаточно медленно. Например, процесс возобновления работы автозаводов растягивается от последней недели апреля до начала второй половины мая. В Италии, где карантин начали ослаблять уже больше двух недель назад, пока не функционируют большинство строек. По оценкам европейской ассоциации Eurometal, объединяющей сервисные металлоцентры, через которые ежегодно проходит порядка 80 млн. т стальной продукции, в мае видимое потребление проката будет на 35-45% меньше, чем в том же месяце прошлого года.
Да и ожидания на июнь в этих регионах не блещут оптимизмом. Индийские специалисты считают, что восстановление национальной строительной отрасли, на долю которой приходится свыше 60% потребления стальной продукции в стране, начнется не ранее октября, когда завершится дождливый сезон.
Турецкие металлургические компании пока не решаются приобретать большие объемы металлолома с поставкой в июне-июле, так как не уверены, что у них в это время будет достаточно заказов. По сравнению с пиком в середине апреля лом в Турции подешевел более чем на $20 за т, а это тянет вниз котировки на заготовку и сортовой прокат.
И вообще, цены на стальную продукцию на мировом рынке сейчас почти везде понижаются. По оценкам Citi, в различных странах мира остановлены доменные печи совокупной мощностью 105 млн. т в год, а это – более 11% от прошлогоднего производства стали за пределами Китая. Тем не менее, предложение везде превышает спрос, а металлургические компании все более активно ищут рынки сбыта за рубежом.
Понижение котировок происходит и в России. Его источником является, прежде всего, спотовый рынок. Малый и средний бизнес, а также строительный сектор, где сосредоточена большая часть спроса в этом сегменте, намного более тяжело переживает кризис, чем крупные предприятия. Поэтому металлургическим компаниям в конечном итоге тоже приходится идти на уступки покупателям и сбавлять цены. Изменится ли эта негативная тенденция в ближайшие несколько недель – большой вопрос.
Западные аналитики вообще закладываются на длительный кризис. По прогнозу World Steel Dynamics, производство стали в странах ОЭСР в текущем году упадет на 22,7% по сравнению с 2019 г. Компания Roskill предсказывает 13,5%-й спад за пределами Китая, причем оговаривает, что сильнее всего просядет выплавка в странах Евросоюза и Северной Америки. А некоторые мощности, которые выводятся из эксплуатации в настоящее время, могут вообще не вернуться в строй снова.
Так, например, американская компания AK Steel объявила, что в июле закроет «с концами» завод Dearborn в районе Детройта, который когда-то считался ведущим металлургическим предприятием, обслуживающим автомобильную отрасль США. Норвежская Norsk Hydro в конце текущего года остановит один из двух заводов в Европе по выпуску прецизионных алюминиевых труб, которые также используются преимущественно в автопроме. В обоих случаях, как подчеркивают компании, проблема не в коронавирусе. Падение платежеспособного спроса на автомобили началось в западных странах еще задолго до начала эпидемии и, очевидно, продолжится после нее.
Вообще-то, это очень нехороший признак. Спрос на легковые автомобили – важный индикатор, показывающий состояние потребительского рынка, уровень доходов населения, наличие либо отсутствие оптимизма и уверенности в будущем. К тому же, эта отрасль и сама по себе создает массу смежников и поддерживает сотни тысяч рабочих мест.
Между тем, затяжной кризис на Западе – это низкие цены на нефть, газ, стальную продукцию и другие ресурсы, экспорт которых составляет немалую часть доходов российского бюджета. Кроме того, если Европа и США так тяжело выходят из коронавирусного спада, кто поручится, что у нас самих будет лучше?!
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

В начале третьей декады апреля на мировом рынке стали появились оптимистичные настроения, вызванные грядущим ослаблением и даже отменой карантина в некоторых странах и перспективами начала восстановления спроса на стальную продукцию. Но наступил май, и свет в конце туннеля задернулся дымкой.
Поэтому возвращение спроса на стальную продукцию после ослабления карантина отнюдь не означает его восстановления в ближайшей или даже среднесрочной перспективе. В Италии, где промышленность уже понемногу начала запускаться, металлургические компании и дистрибьюторы рассчитывают, что в мае загрузка мощностей и объем продаж будут на уровне не более 40-50%, от прошлогодних показателей. В США продолжается закрытие мощностей на металлургических комбинатах. Автозаводы там, вроде бы, возобновляют выпуск в первой декаде мая, но профсоюзы считают это преждевременным с точки зрения безопасности сотрудников.
Поэтому некоторое оживление спроса на прокат на мировом рынке и повышение цен во второй половине апреля стало непродолжительным. В последние дни прошедшего месяца котировки либо стагнировали, либо опускались. Наименее проблемной выглядела Восточная Азия благодаря Китаю, который вдруг переквалифицировался в достаточно крупного импортера горячекатаного проката, заготовки и слябов.
Но у китайской, как, кстати, и вьетнамской экономики есть одна неустранимая слабость – падение спроса на металлоемкие промышленные товары, составляющие весомую долю их экспорта. По оценкам национальной металлургической ассоциации CISA, в прошлом году из страны было вывезено почти 80 млн. т стали в виде экспорта автомобилей, промышленного оборудования, бытовой техники, морских судов и контейнеров. Как ожидается, в 2020 г. эти поставки упадут на 25%.
У рынка стали выбивают сырьевую подпорку, которая помогла ему подняться пару недель тому назад. В Турции снова подешевел металлолом, потерявший уже порядка $20 за т по сравнению с недавним пиком. За ним начали снижаться котировки на арматуру и заготовку на всем Ближнем Востоке. Региональный строительный сектор остается в кризисном состоянии вследствие падения цен на нефть и других неблагоприятных факторов.
В Китае в последние дни перед праздниками уменьшилась стоимость железной руды. Пока незначительно: значение спотового индекса Fastmarkets для австралийского концентрата с 62%-м содержанием железа все еще превышает $80 за т CFR. Но многие эксперты считают, что китайским металлургам так или иначе придется сокращать выплавку.
Понижение цен на руду до $70-80, а то и до $60-70 за т CFR Китай несколько облегчит жизнь металлургам, но и позволит им дальше сбавлять котировки на свою продукцию. Производство стали в целом сокращается, но на внешних рынках продолжают конкурировать друг с другом за резко уменьшившиеся заказы поставщики из Индии, СНГ, Кореи, Турции, других стран. При этом, скорее всего, правительства будут все сильнее поддерживать собственных производителей, ограничивая импорт стальной продукции.
Российские металлургические компании тоже начинают сбавлять обороты. Во второй половине апреля резко уменьшилась загрузка мощностей по выпуску сварных труб малого и среднего диаметра, а в мае она может упасть и до менее 50% от прошлогодней. Соответственно, меткомбинаты будут сокращать производство листового проката. Та же ситуация наблюдается в секторах арматуры и другой продукции строительного назначения. В апреле видимый спрос на нее снизился, по меньшей мере, на 20-30%, а в некоторых регионах, включая Москву и Московскую область, — еще сильнее. И май вряд ли принесет существенное облегчение.
Пока сужение спроса на прокат на десятки процентов не привело к обвалу цен. Только сварные трубы опустились на уровень осени прошлого года. Но в этом секторе и избыточные мощности самые большие, и игроков очень много, и есть, так сказать, привычка решать сбытовые проблемы с помощью демпинга. Однако резкое сокращение выпуска данной продукции, возможно, поможет стабилизировать ситуацию.
В целом металлотрейдерские компании осознают, что радикальное понижение котировок не даст существенного роста продаж. Цены просто медленно и постепенно идут на спад. Кроме того, определенное сдерживающее влияние оказывают на них действия металлургических компаний, которые до самого конца апреля отказывались от официальной коррекции своих предложений. Впрочем, на уступки клиентам производители все равно идут.
Для нас это еще вопрос завтрашнего дня, поскольку главное сегодня – хотя бы затормозить распространение эпидемии, но в связи с продолжением действия карантинных мер все более актуальным становится вопрос о дальнейшем сосуществовании экономики с коронавирусом. Эпидемия в самой жесткой форме продемонстрировала фатальные слабости нынешней экономической модели западных стран, которую в значительной мере восприняла и Россия. Коронавирус буквально сдул с нее огромную настройку сферы услуг с десятками миллионов рабочих мест.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Для мирового рынка стали апрель стал провальным месяцем. По оценкам европейской металлургической ассоциации Eurofer, в странах ЕС количество новых заказов на стальную продукцию упало на 75% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а объем производства стали может сократиться на 50%. В последнюю неделю благодаря ослаблению карантинного режима появился хоть какой-то спрос на прокат на юге Европы, но металлургическим компаниям приходится резко понижать цены, чтобы вызвать интерес у покупателей. Аналогичный спад происходит и в США. В Индии в первые две декады апреля внутренний спрос был вообще близок к нулю.
Обращает на себя внимание то, что по всему миру продолжают останавливаться доменные печи. Только за последнюю неделю сообщения об этом приходили из Японии, США, Индии, Франции, Чехии. Количество выведенных из эксплуатации агрегатов уже приблизилось к четырем десяткам, а их совокупная мощность превысила 5 млн. т в месяц. Конечно, это не так уж много по сравнению с общим объемом глобального доменно-конвертерного производства, но если металлургические компании идут на такой технически непростой и затратный шаг, это означает, что они не надеются на скорое улучшение.
И это действительно так. Экономику легко «выключить», а вот ее «включение» потребует не одного месяца. При этом нынешняя ситуация беспрецедентная: еще ни разу мир не сталкивался с глобальной пандемией и не вводил глобального карантина. Как отмечает Worldsteel, в этом году не ставшая публиковать свой традиционный «Краткосрочный прогноз» в апреле, для всех крупнейших металлопотребляющих отраслей кризис будет иметь долгосрочные последствия.
Строительный сектор весьма сильно пострадал от коронавируса. В нем очень велика доля мигрантов, будь то гастарбайтеры, которым в начале эпидемии пришлось вернуться домой, или выходцы из села, как в Китае или Индии. Так или иначе отрасль будет еще долго испытывать дефицит рабочих рук и функционировать на пониженных оборотах.
Впрочем, по сравнению с другими отраслями стройка еще выглядит прилично. Так, очень сильно просядет производство промышленного оборудования, на которое, по данным Worldsteel, приходится около 15% глобального потребления стальной продукции. В ближайшие месяцы многим компаниям будет очень сильно не до новых инвестиций. Кроме того, эпидемия привела к разрыву многих международных производственных цепочек.
Большой провал ждет и автопром. По прогнозу исследовательской компании LMC Automotive, мировое производство легковых и коммерческих автомобилей в 2020 г. может сократиться на 20% по сравнению с предыдущим годом или примерно на 19 млн. машин. Конечно, на фоне всего глобального рынка стали это не так уж много, но автопром традиционно потребляет наиболее качественную стальную продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Пока трудно судить, насколько значительным окажется в итоге падение глобального потребления стальной продукции. Это, в частности, будет зависеть от продолжительности карантина и длительности сроков разработки лекарства против коронавируса. Но на сегодняшний день спад на 5-10% по итогам года представляется достаточно оптимистичным вариантом. При этом потери будут распределены достаточно неравномерно, а самые большие «лузеры» определятся, возможно, только к лету.
Россия пока что входит в число стран, понесших сравнительно небольшие потери. Самые крупные промышленные предприятия отнесены к системообразующим и продолжают выпускать продукцию. Не была приостановлена реализация инфраструктурных проектов. Как правило, не остановилась и металлоторговля, хотя дистрибьюторские компании столкнулись со значительным падением видимого спроса — от 80-90% в Москве во второй половине апреля до 20-30% на наиболее благополучных локальных рынках.
Производство стали, по предварительным оценкам, пока лишь незначительно сократилось по сравнению с прошлогодними показателями. Ни один из мини-заводов не был остановлен и ни один из крупных меткомбинатов не стал внепланово выводить из эксплуатации доменные печи и конвертерные цеха.
Тем не менее, видимое потребление стальной продукции в текущем месяце должно снизиться, по меньшей мере, на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Причем наибольшие потери понес спотовый рынок, ориентированный на строительный сектор, малый и средний бизнес, а также поставки по тендерам. Стоимость стальной продукции на споте продолжает уменьшаться, хотя металлургические компании не хотят идти на уступки. Впрочем, очевидно, позже им придется корректировать цены задним числом, как уже было в конце прошлого года.
На внешних рынках экспортные котировки на российскую продукцию перестали падать. Основной вклад в это внесла Турция, где после недавнего скачка цен на металлолом увеличилась стоимость сортового и листового проката, а местные компании возобновили закупки российских полуфабрикатов и горячекатаных рулонов. За последнюю неделю осуществлялись продажи данной продукции и в страны Европы и Ближнего Востока. Это позволило российским меткомбинатам приостановить поставки горячекатаного проката в Китай и Вьетнам через черноморские порты по ценам ниже $350 за т FOB.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Неделя в середине апреля была решающей, и она ей стала. Количество выявленных вирусоносителей в России продолжает прибавлять примерно по 15% в день, удваиваясь каждые 4-5 суток. Стабильно растет и число жертв. Оно, конечно, в разы меньше, чем во многих других странах, но никому не хочется, чтобы он сам или его близкие пополнили эту печальную статистику.
Итак, карантину – быть! Причем, все более жесткому, с растущим применением достижений информационных технологий. Не для того в Москве начали тестировать систему электронных пропусков со всеми ее «недетскими болезнями», чтобы отказаться от нее через неделю или две.
Это, конечно, очень прискорбно. В Москве и области уже остановлено большинство строек. Во многих компаниях, не относящихся к жизнеобеспечивающим отраслям, сотрудники работают в удаленном режиме или не работают вообще. Можно сказать, заканчивают загибаться наименее устойчивые компании малого бизнеса. Государственная поддержка в принципе оказывается, но с перебоями, особенно, на уровне банков. Эти организации и ранее были враждебными реальному сектору экономики, сейчас они его окончательно прибивают.
Нет, пока очень много чего в стране работает. В частности, металлургические компании. Правда, у них уже начали возникать проблемы со сбытом продукции. По оценкам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), уже в марте внутренний спрос на черные металлы сократился в России на 11,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а по итогам первого квартала в целом спад составил 6,9%. Экспортные поставки уменьшились на 9,6% в марте и на 9,5% за три месяца. Потребление цветных металлов в марте упало на 30,6% в России и на 14,5% — на внешних рынках.
Однако эпидемия не стихает, сохраняются ограничения на использование рабочей силы и транспортировку. Поэтому спрос на стальную продукцию остается низким. В различных европейских странах он сократился на 30-70% по сравнению с прежними временами, в США – в некоторых отраслях и регионах более чем на 50%. В Индии перед ослаблением режима с 20 апреля видимое потребление практически отсутствовало как класс. По самым оптимистичным оценкам местных специалистов, стройка, важнейшая металлопотребляющая отрасль, заработает там не раньше середины лета.
Металлурги, конечно, находятся в намного более выигрышном положении, чем, например, нефтяники. У последних обвал спроса в апреле может составить 30-40% в мировом масштабе. Во весь рост встала проблема свободного места в хранилищах, так как добытую нефть скоро будет некуда девать.
Но и металлургическим компаниям приходится сокращать производство. В Европе выведены из эксплуатации либо находятся в процессе закрытия более десятка доменных печей, способных выдавать порядка 23 млн. т чугуна в год. А это, между прочим, более четверти мощностей меткомбинатов Евросоюза, включая Великобританию. В США с середины марта объявлено об остановке пяти доменных печей, пяти трубных заводов и еще всякого разного. Средний уровень загрузки мощностей в американской металлургической отрасли упал до минимального уровня с 2009 г. В Японии по две доменные печи закрывают компании Nippon Steel и JFE Steel, и это, вероятно, еще не полный перечень.
Пока что экономика продолжает падать. На российском спотовом рынке дешевеют почти все виды стальной продукции, за исключением, разве что, оцинкованной стали. Тут уж не до подсчетов маржи, главное – продать, чтобы получить оборотные средства. Отпускные цены заводов практически не воспринимаются в качестве ориентира. В конце прошлого года их уже корректировали круто вниз, причем не за один месяц. Как говорится, можем повторить!
А вот за рубежом спад на некоторых рынках приостановился. В частности, в Турции и других странах Ближнего Востока выросли арматура и заготовка. Немного приподнялись вверх импортные котировки на горячекатаный прокат во Вьетнаме и экспортные в Индии. Отчасти это сработало ограничение объемов предложения, отчасти – достаточно серьезные по объему закупки в Китае, где внутренние цены существенно выше, чем на мировом рынке, но в наибольшей степени – сырьевой фактор.
Из-за карантина сборы металлолома в различных регионах, включая Россию, упали в 3-5 раз по сравнению с докризисными показателями. Дефицит предсказуемо привел к повышению цен. В частности, в Турции, где он оказался наиболее острым, котировки прибавили без малого 20% за последние две недели.
Дорогостоящей остается и железная руда. В первом квартале выплавка стали в Китае возросла на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, производство чугуна – на 2%, импорт ЖРС – на 1,3%. Из-за этого себестоимость горячекатаных рулонов в Китае, по данным местной консалтинговой компании Mysteel, составляет порядка $400 за т. В других странах – вряд ли сильно меньше. Поэтому снижение котировок на тот же горячий прокат ниже $370-380 за т FOB происходит с большим скрипом. Более дешевую продукцию могут предлагать только заводы из СНГ.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Шла третья неделя карантина… Вирус в тестах, вирус в легких, вирус в мозгах… Информационный шум вокруг этой темы раздут до предела и полного беспредела. В нем представлены абсолютно все возможные темы и мемы, начиная от: «Это ж-ж-ж точно неспроста» и заканчивая: «Иногда банан – это просто банан». Так что, в этом лесу смыслов запросто можно спрятать целый мешок листьев любого цвета и запаха.
Разбираться в этом калейдоскопе, в котором часть фактов скрыта, а другая перекручена, – дело безнадежное. Сейчас при желании под любую версию можно подобрать доказательства, а любой бред может показаться (или даже оказаться) откровением. Поэтому в качестве точки опоры можно выбрать реальную экономику, в которой, по крайней мере, происходят наблюдаемые, а порой даже объективно измеряемые процессы.
Пока ситуация там выглядит паршиво. Экспериментальным путем подтверждается гипотеза, что если человека не поить, не кормить и не лечить, он будет чувствовать себя несчастным, а то и… эта… помрет! Практически по всему миру с той или иной степенью рвения поддерживается карантин. Где-то на удаленку выпихнули только офисных работников, где-то остановлены промышленные предприятия, стройки и рудники, но везде из экономики выбиты целые сектора (общественное питание, туризм, авиаперевозки, услуг и др.), которые, словно падающие доминошки, рушат за собой своих смежников, а те – своих и так по цепочке.
В принципе, большинство стран все-таки отменяют самые жесткие ограничения. Даже в Италии во второй половине апреля будут снова открываться промышленные предприятия. Несколько снижается накал борьбы с коронавирусом и в ряде российских регионов, хотя Москву теперь, очевидно, ждет ужесточение режима. Тем не менее, вопрос о снижении экономической активности стоит очень остро.
Европейские и американские данные показывают сокращение потребления электроэнергии на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Продажи нефтепродуктов в транспортном секторе упали на 30-70%. Поэтому попытки производителей нефти согласованно сократить добычу выглядят заведомо недостаточными.
С аналогичными проблемами сталкиваются и металлурги. По оценкам Platts, видимое потребление стальной продукции в Турции и европейских странах может упасть в апреле в два раза по сравнению с докризисными показателями. Поэтому и производство стали падает сейчас до уровня 2009 г., а то и ниже. В Европе, Индии, США, Турции, Бразилии, других странах останавливаются мини-заводы и ставятся на режим горячей консервации доменные печи.
В России все это пока ощущается не так остро. Все-таки, крупные предприятия и большие стройки, в основном, работают. Москва в этом плане пока исключение. Более того, центральное правительство прямо советует регионам не закрывать экономику на карантин. Тем не менее, сильно сократилась та часть спроса, которая ранее генерировалась малым, средним и «средне-крупным» бизнесом, а также частными потребителями. У одних сейчас уменьшились доходы либо же их поступления, по большей части, прекратились. Другие вошли в режим жесткой экономии.
В апреле-мае российские металлурги могут столкнуться с проблемой избыточных складских запасов. По крайней мере, дистрибьюторы и производители сварных труб значительно уменьшили закупки проката с заводов. Поэтому объявленное на апрель производителями повышение цен на стальную продукцию повисло в воздухе. Оправдать его может, пожалуй, только новое снижение курса рубля. Однако всю прошедшую неделю он, наоборот, укреплялся.
С экспортом вообще дело швах. Горячекатаные рулоны в первую декаду апреля порой продавались по $340 за т FOB и менее, чего не наблюдалось больше четырех лет. Причем одним из крупнейших покупателей этой продукции на мировом рынке является Китай, где внутренние цены ощутимо повыше. Заготовка, правда, подросла до тех же $340 за т, но этим отечественные металлурги обязаны тем турецким коллегам, которые не успели закупиться металлоломом до начала жесткого карантина, а затем были вынуждены срочно приобретать его втридорога. На долгосрочную тенденцию подъем цен на лом в Турции пока не тянет.
Кто виноват и что делать? Эти сакраментальные вопросы внезапно приобретают просто смертельно важную актуальность. В Штатах уже подали иск против Китая и хотят скачать с него что-то типа 20 триллионов долларов. Так как это дело будет рассматривать американский суд, нужный вердикт выглядит делом техники, вопрос только в имплементации. Демократическая оппозиция в тех же США усиленно валит президента Дональда Трампа в надежде на то, что на волне коронавируса их кандидат в ноябре текущего года триумфально въедет в Белый дом. Причем общая обстановка продолжает накаляться – и в отношении количества заболевших, и вообще. Такими темпами даже страшно подумать, что мы можем получить к концу апреля!
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Ситуация понемногу определяется. Некоторые страны под влиянием эпидемии или вызванных ею страхов усаживают большую часть своей экономики на пятую точку. Из-за того, что люди находятся на карантине, останавливаются промышленные предприятия, стройки и порты. Другие стараются поддерживать хрупкий баланс между безопасностью и экономической целесообразностью, чтобы не допустить ни обострения эпидемиологической обстановки, ни лишения значительной части населения средств к существованию.
В то же время, надо отдавать себе отчет в том, что перелома еще не произошло – ни у нас, ни, тем более, за рубежом. Жесткие карантины в Индии, Юго-Восточной Азии, ряде западных стран будут продолжаться, как минимум, до середины апреля. И пока нет ответа на вопрос: что будет, если и к тому времени не улучшится эпидемиологическая обстановка?
Прошедшая неделя в целом завершилась на мажорной ноте. Даже предположение о том, что ведущие экспортеры нефти могут договориться друг с другом о радикальном сокращении добычи, за пару дней взвинтило биржевые котировки на сорт «брент» более чем на треть – от около $25 до почти $35 за баррель. Под влиянием этого фактора и рубль поднялся до наивысшей отметки с середины марта.
Поэтому большой удачей станет, если соглашение по нефти вообще будет достигнуто, а основные производители договорятся убрать с рынка хотя бы 10-15% от ежедневного производства. Но проблема в том, что спрос в апреле может смело упасть в мировом масштабе на 20, а то и на 30%. Поэтому нефть все равно останется в избытке и будет сливаться в хранилища… пока там еще есть свободное место. На месяц-полтора это обеспечит решение. А дальше?.. Нет ответа.
С аналогичной проблемой столкнулся сейчас и мировой рынок стали. В начале апреля видимое потребление резко упало, что привело к появлению большого избытка предложения и обвалило цены на ряде региональных рынков на уровень 2016 г. Горячекатаный прокат предлагается компаниями из СНГ, Индии, Китая менее чем по $400 за т FOB, заготовка подешевела до менее $340 за т FOB, металлолом в Турции стоит чуть дороже $200 за т CFR. По сравнению с показателями месячной давности спад составил порядка 20%.
И это еще не конец. Так, турецкие производители арматуры опасаются удешевления своей продукции до $350 за т. Европа ничего не покупает и вряд ли вернется на рынок в ближайшую неделю. Индия вне игры из-за карантина. По той же причине приостановились поставки в ряд государств Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В Турции и на Ближнем Востоке потребители выжидают и попутно выжимают у продавцов все более масштабные уступки. Расширяют, правда, импорт стали китайские компании. Но по сравнению с понесенным рынком потерями их вклад незначительный.
Безусловно, приостановить производство стали проще, чем закрыть нефтяные скважины. В Европе выведены из эксплуатации мощности по выплавке около 15 млн. т чугуна в год, на многих комбинатах доменные печи работают с минимальной загрузкой. То же самое происходит и в Индии, где к тому же на комбинатах остановлены прокатные станы из-за отсутствия людей на рабочих местах. Временно прекращают функционирование мини-заводы с электропечами, в очередной раз гибко отреагировавшие на изменение обстановки. Тем не менее, цены на прокат на мировом рынке еще какое-то время, очевидно, будут падать просто из-за недостатка покупателей.
С этой проблемой неизбежно столкнутся и российские компании. На отечественном рынке тоже накапливается масса стальной продукции, которая в ближайшее время не может быть продана. Очень вероятно, что под этим давлением металлургам придется отказаться от объявленного на апрель повышения котировок на широкий сортамент проката или ограничиться более скромным ростом. Во всяком случае, спотовый рынок в очередной раз отстал от первичного без особой надежды догнать его, а экспортный паритет, на который любят ссылаться металлурги, опускается все ниже.
Пока полностью туманным остается будущее. Нынешний кризис уникален. Никогда ранее мир не накрывала пандемия, требующая проведения настолько широкомасштабных карантинных мероприятий. И коронавирус – это, увы, надолго. По меньшей мере, пока не появятся лекарства, способные предотвратить самые неприятные осложнения, либо сам вирус, как это было сто лет назад с гриппом, не мутирует в сторону меньшей опасности, став не более чем беспокоящим сезонным недугом.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Квартал закончили досрочно. Впереди целая выходная неделя. Конечно, далеко не для всех она станет нерабочей, но решение президента, возможно, станет для многих из нас некоторой передышкой среди нарастающего стресса и стремительно накапливающейся массы плохих событий.
По-любому, объявление нерабочей недели — это гуманнее, чем жесткий карантин, который введен в действие в ряде стран. Некоторые из них, включая, например, Индию, вообще «выпадают из реальности» на три недели. Там прекращают работу большинство промышленных предприятий, рудники, порты, люди обязаны сидеть дома — вот, где самый кошмар!
Не исключен вариант повторения подобной чрезвычайки, как минимум, в Москве, но остается еще очень много шансов обойтись малой кровью. Многое будет зависеть, от того, насколько ответственно отнесемся мы все к нынешнему «мягкому карантину», и насколько высокую дисциплинированность проявят те, кто находятся в зоне риска.
Ситуация и так достаточно сложная — и конкретно в России, и в мире. Металлургическая промышленность ряда стран уже столкнулась с падением спроса, за которым неизбежно следует сокращение производства. В Западной Европе, по данным на 27 марта, остановлено, пока временно, восемь доменных печей совокупной производительностью немногим менее 15 млн. т в год и не менее трех десятков прокатных, трубных предприятий и мини-заводов. Простаивает либо сбавила обороты большая часть предприятий по выпуску сортового проката в Турции. В Индии почти все ведущие производители стали и проката останавливают выпуск либо снижают загрузку до самого минимума, чтобы обходиться наименьшим числом персонала. В США тоже гаснут доменные печи, а также закрываются заводы, выпускающие трубы для угодившей в эпицентр кризиса нефтегазовой отрасли. А количество временно прикрытых рудников исчисляется по всему миру уже, наверное, сотнями.
До недавнего времени этот разрушительный процесс не сопровождался обвальным падением мировых цен на стальную продукцию. Но в последнюю неделю марта и эта защитная линия пала. Для заготовки уже вполне реальными считаются цены порядка $330 за т FOB — и снова здравствуй, 2016 год! Предложения по горячекатаному прокату из Китая и Украины в отдельных случаях могут опускаться до менее $400 за т FOB. Скоро и это может стать нормой. Кое-где цены еще стоят, как, например, в Европе, но лишь из-за отсутствия сделок.
Пока еще роль некоторого ограничителя играют затраты на сырье. Металлолом в Турции, конечно, упал, но прекращение его закупок позволило условно заморозить котировки на отметке $225 за т CFR. Железная руда пока держится выше $85 за т CFR Китай. Правда, основную роль в поддержании этой стабильности играют карантинные мероприятия в странах-экспортерах вплоть до Австралии и Бразилии. Как только поставки сырья восстановятся, его стоимость может пойти вниз. Китайские металлургические комбинаты лишь в минимальной степени снижали выплавку чугуна и стали в феврале и марте, но теперь им, очевидно, придется сбавить обороты, чтобы куда-то деть накопившиеся в безобразных количествах запасы.
Понижение цен на стальную продукцию на внешних рынках означает, помимо всего прочего, корректировку «экспортного паритета» для российских металлургов. Конечно, еще остаются всякие форс-мажоры с вероятным падением курса рубля в случае введения в Москве жесткого карантина или каких-то очень серьезных непоняток с нефтью, но такие угрозы все-таки не производят впечатления неотвратимых. А значит, можно предположить, что рублевый эквивалент экспортных котировок отечественных компаний будет снижаться параллельно с долларовым.
В связи с этим могут быть пересмотрены в сторону понижения внутренние цены на стальную продукцию в России. Сейчас металлурги анонсировали новые повышения на апрель, вследствие чего первичный рынок стал снова опережать спотовый. Правда, спрос на прокат и трубы в последнее время оживился вследствие наступления весенней погоды и некоторой активизации стройки, но неблагоприятные экономические ожидания и негативные последствия даже ограниченного карантина оказывают на рынок сильное давление.
Вообще, нынешняя обстановка производит впечатление балансирования между плохим и худшим. С одной стороны, очень плохо приходится сейчас сфере услуг и вообще малому бизнесу, а также и более крупным компаниям, если они относятся к пострадавшим отраслям. Меры поддержки с кредитами и отсрочками по налогам, предложенные президентом, реально уменьшат потери, а снижение страховых взносов от 30 до 15% может в перспективе создать условия для повышения зарплат и роста потребительского рынка. Но они, конечно, не снимут все проблемы. Банкротств впереди будет, увы, много.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

М-да, хуже коронавируса может быть только борьба с коронавирусом! Все больше стран вводят у себя карантинные меры, копируя успешный китайский опыт, однако получается почему-то как карго-культ в чистом виде.Ведь что было в Китае? Эпидемия началась накануне Нового года по китайскому календарю, когда сотни миллионов людей, за последние четверть века переселившихся в промышленные приморские провинции и крупные города в центральной части страны, уехали на праздники в родные деревни. У заболевания был четко выраженный очаг в городе Ухане, который на самом деле представляет собой агломерацию с территорией в три с лишним раза больше Москвы, считая с новыми округами.
При этом китайская промышленность оказалась достаточно мощной, чтобы за три-четыре недели снабдить все население в карантинных районах защитными масками, а китайские медики смогли справиться с пиком заболевания в Ухане. Характерно, что металлургические комбинаты, алюминиевые заводы и подавляющее большинство других предприятий с непрерывным производственным циклом продолжали функционировать в течение всего февраля. Не остановился даже комбинат компании Wuhan Steel, хотя там было обнаружено около сотни заболевших сотрудников. Вследствие того, что с эпидемией удалось справиться достаточно быстро, даже компании малого бизнеса не успели понести финансовые потери, не совместимые с дальнейшим функционированием.
Так или иначе, одновременно с пандемией мир вступил в сильнейший экономический кризис. Негативные тенденции в экономиках накапливались еще с 2008 г. и ранее, а теперь, можно сказать, трубу окончательно прорвало. Промышленное производство падает. В частности, в США и Европе остановлены все автозаводы. Европейские металлургические компании во главе с ArcelorMittal вынуждены радикально сокращать выплавку стали и выпуск проката. В странах Латинской Америке ставятся на карантин медные, цинковые и золотые рудники.
Ближайшие последствия для российского рынка стали заключаются в том, что металлургические компании поднимают цены, руководствуясь экспортным паритетом, тогда как спрос падает. Впереди нас в любом случае ждет сильное проседание потребительского рынка, падение продаж жилья, автомобилей, других товаров длительного пользования. Снова подорожает импорт, потянув за собой вверх и другие цены. Государство пока ограничивается обещаниями помочь, если потребуется, и предоставлением отсрочки по налогам и некоторым платежам, которые все равно потом придется платить — и как бы не вместе с накопившимися недоимками.
В то же время, нынешние высокие цены на стальную продукцию в России могут вскоре уйти вниз вследствие проседания экспортного паритета. На первый взгляд, мировой рынок стали в условиях сильнейшего кризиса сохраняет просто феноменальную устойчивость. За последние две недели снижение котировок на заготовку и горячекатаный прокат на основных рынках составило не более $10-25 за т — сущая мелочь по сравнению с нефтью. Однако эта стабильность выглядит кратковременным явлением.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»
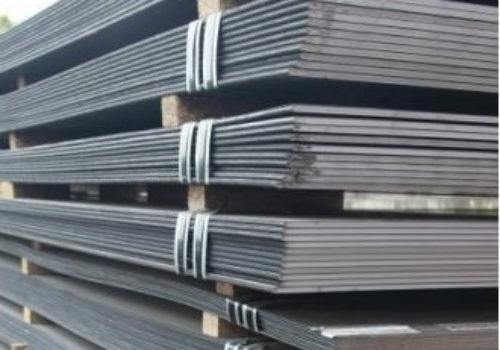
Итак, мир вступил в период нового глобального кризиса. Эпидемия вырвалась за пределы Китая, который, наоборот, к настоящему времени справился с заболеванием, и превратилась в пандемию, нанесшую завершающий удар и без того ослабленной мировой экономике. А ценовая война, развязанная на мировом рынке нефти Саудовской Аравией, сыграла роль детонатора.
В пятницу, 13-го, дела на биржах несколько улучшились, но все равно общий итог обескураживающий. По сравнению с докризисным концом января нефть упала в цене почти в два раза. Рубль подешевел по отношению к доллару на 18%. Значение самого знаменитого американского биржевого индекса Dow Jones Industrial Average уменьшилось более чем на 25% по сравнению с пиком в середине февраля. В четверг, 12 марта, многие биржи испытали самое сильное падение со времен «черного понедельника» в октябре 1987 г.
По состоянию на 3 марта, когда дела еще только начали улучшаться, в китайской металлургической промышленности было задействовано всего 7,8% мощностей мини-заводов, хотя крупные металлургические комбинаты, как правило, продолжали функционирование в течение всего февраля. На севере Италии, по состоянию на 13 марта, прекратили работу четыре металлургических предприятия: два мини-завода Alfa Acciai и Ferriera Valsabbia, производитель фасонного проката Duferdofin-Nucor и трубный завод Tenaris Dalmina. Их совокупная мощность — более 300 тыс. т стальной продукции в месяц. При этом профсоюзы потребовали остановки всей национальной металлургической и металлообрабатывающей отрасли, как минимум, до 22 марта. С 12 марта прекратилась работа всех автосборочных заводов Fiat в Италии.
Демпинг при поставках стальной продукции устраивают в последнее время, главным образом, компании из Японии и Кореи. Там обвалился внутренний спрос, причем, отнюдь не коронавирус тому виной. Серьезные экономические проблемы начались у них еще в конце прошлого года. Снова расширяют присутствие за рубежом, кстати, и индийские компании. Прошлогодний экономический кризис там тоже не удалось преодолеть, потребление стальной продукции восстанавливается слабо.
В то же время, всеобщая напасть пока слабо затронула мировой рынок стали. Понижение котировок за последние две недели измеряется единицами процентов. Стоимость заготовки и горячекатаного проката на Ближнем Востоке, в Турции, Европе, Восточной Азии с начала марта опустилась не более чем на $5-10 за т. Примерно в таком же масштабе подешевел металлолом в Турции. Железная руда в Китае стоит прочно возле отметки $90 за т CFR. При этом местная металлургическая отрасль практически восстановила докризисный уровень загрузки.
Тем не менее, паника имеет место быть, и это находит отражение на российском рынке стали. Многие дистрибьюторские компании, ожидая скачка заводских цен, подняли котировки на арматуру и листовой прокат в прайс-листах на 1,5-4 тыс. руб. за т. Хотя даже при курсе в 74 руб. за доллар горячекатаные рулоны в России и по прежним рублевым ценам находятся выше экспортного паритета. Арматура чуть выше экспортной заготовки, но та очевидно будет дешеветь.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»
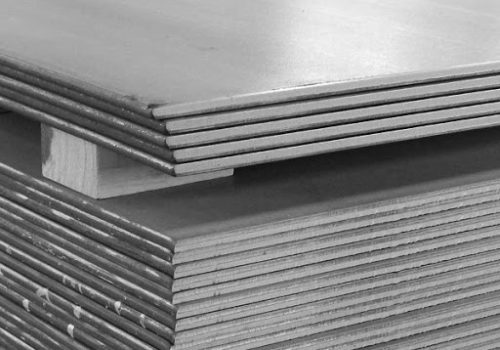
На мировом рынке стали пока спокойно. На всех основных региональных рынках на прошлой неделе наблюдался медленный рост. Китайские металлургические компании в конце февраля предприняли попытку поднять экспортные котировки на горячекатаный прокат. В Европе производители также продолжают упорно толкать цены вверх. В Германии предложения по горячекатаным рулонам на второй квартал достигают 480-490 евро за т. Турецкие компании снова довели стоимость данной продукции до более $500 за т FOB. Отдельные продажи российской заготовки осуществлялись более чем по $400 за т FOB – впервые почти за полтора месяца.
Однако риски разворота вниз нарастают. В Европе главной проблемой становится коронавирус и обуславливаемые им карантинные меры. Впрочем, экономика региона и так находится не в лучшем состоянии. Неважно чувствует себя германское машиностроение. До опасной черты дошел конфликт в Сирии. Из-за этого может прекратиться осторожный рост в Турции.
Очень далек от благополучия Китай. По состоянию на 24 февраля, мощности ведущих национальных машиностроительных компаний были загружены менее чем на 70%, а на рабочие места вернулись менее 50% сотрудников. Для стройки выход на этот уровень ожидается только во второй половине марта. Пока даже в секторе инфраструктурного строительства запустились только 25-35% крупных проектов.
Но главная проблема китайского рынка стали — накопление складских запасов. В частности, по состоянию на 27 февраля на предприятиях и в металлоторговой сети скопилось почти 20 млн. т арматуры — в полтора раза больше, чем годом ранее. Впрочем, в конце прошедшего месяца стройка начала оживать, а металлургические компании резко сократили выпуск проката строительного назначения. С листовым прокатом дела обстоят не лучше. С одной стороны, его потребление рухнуло в феврале не так сильно, как арматуры — на 30-50% против 75%, по оценкам Platts. С другой, в меньшей степени уменьшилось и производство этой продукции.
Во второй половине февраля китайские компании почти монополизировали азиатский рынок листового проката, по крайней мере, его низший ценовой сегмент. Ни российской, ни индийской продукции в этот период в продажу во Вьетнам не поступало. Правда, если в середине месяца не редкость были предложения китайских рулонов по $440 за т FOB, то в конце месяца минимальный уровень возрос до $450 за т. Но избыточные запасы продолжают давить на рынок. В марте и, очевидно, апреле эти излишки китайским рынком востребованы не будут.
Вообще, впереди возможны два сценария. Во-первых, китайские меткомбинаты в марте могут пойти на радикальное снижение производства, чтобы сбалансировать национальный рынок. Тогда с гарантией ухнет вниз железная руда, которая потянет за собой стальную продукцию. Во-вторых, может продолжиться экспортная экспансия китайцев. Тогда в Азии подешевеет листовой и сортовой прокат. Так или иначе, роста в обозримом будущем не просматривается.
Избыток предложения характерен и для нынешнего российского рынка. Дистрибьюторы и производители сварных труб закупили большие объемы листовой продукции в конце прошлого года по сравнительно низким ценам. Сейчас меткомбинаты пытаются взвинтить отпускные цены, но получается у них плохо. Скорее всего, в конечном итоге им придется пойти на уступки. В то же время, перепроизводство арматуры должно в марте сократиться, так что рынок станет более сбалансированным. Но вот к повышению котировок на эту продукцию не готовы ни металлотрейдерские компании, ни конечные потребители.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

К середине февраля шумиха вокруг китайского коронавируса в мировых СМИ несколько поутихла, но сам этот фактор усиливает свое воздействие на национальную и мировую экономику. К этой проблеме начинают относиться к как чему-то преходящему, непродолжительному, хотя о переломе в борьбе с эпидемией говорить еще преждевременно. А между тем, запас прочности у действующей экономической системы не бесконечный.
В принципе, с 10 февраля китайские предприятия начали возвращаться к работе. Этот процесс поддерживается правительством, особенно, в отношении стратегических отраслей и структур, ответственных за жизнеобеспечение населения. Однако происходит он не так быстро, как хотелось бы. Прежде всего, его тормозит то, что сотни миллионов (без преувеличения) китайских рабочих — горожане в первом или во втором поколении. На празднование Нового года они уехали в родные деревни и только теперь начали возвращаться на рабочие места, где их поначалу ждет двухнедельный карантин. Еще одна проблема — нехватка защитных масок, которыми необходимо обеспечить всех поголовно.
Из-за этого многие предприятия по-прежнему простаивают либо функционируют с неполной загрузкой. В частности, в городе Ганьчжоу в провинции Цзянсу, где сосредоточено более 70% мировых (!) мощностей по выпуску определенных редкоземельных элементов, по состоянию на 12 февраля работали только порядка 20% предприятий. Остальные надеялись запуститься в конце февраля или начале марта. Из-за нехватки людей резко упали перевалочные мощности многих китайских портов, временно закрылись несколько терминалов по приемке сжиженного природного газа.
В китайской металлургической отрасли, по данным на 12 февраля, средний уровень загрузки доменных печей превышал 77%, снизившись всего на 3 п.п. по сравнению с серединой января. Мини-заводы уменьшили объемы производства, но их доля сравнительно невелика. Между тем, национальный рынок стали фактически парализован из-за массовой остановки строек и действия жестких ограничений на доставку автотранспортом. По данным консалтинговой компании Mysteel, отслеживающей 237 металлоторговых компаний во всей стране, объемы спотовых продаж стальной продукции упали в 20-30 раз по сравнению с обычным уровнем «низкого» сезона.
В результате прокат, который продолжает выпускаться, стремительно накапливается на складах. Китайские компании начали активно предлагать стальную продукцию на экспорт. Причем ее стоимость на $40-60 за т ниже, чем перед Новым годом по китайскому календарю. Вследствие этого обвалились цены на прокат и металлолом по всей Восточной Азии. Впрочем, потенциальные покупатели не торопятся заключать сделки с китайскими поставщиками, опасаясь, что судам, приходящим из портов КНР, придется выстаиваться, как минимум, две недели на карантине.
Пока что для российских металлургических компаний рыночная обстановка более-менее благоприятная. Турецкие мини-заводы возобновили закупки металлолома. Вследствие этого подскочили цены на данное сырье, а за ним прибавили заготовка и сортовой прокат. Есть теперь реальный шанс избежать уменьшения экспортных котировок на отечественный листовой прокат.
На российском рынке дешевеет арматура, которой сейчас просто производится больше необходимого. Однако листовая продукция, а вместе с ней сварные трубы уверенно идут вверх. Дистрибьюторам и конечным потребителям приходится принимать условия, выставляемые металлургическими комбинатами, по причине отсутствия разумных альтернатив. Хотя спрос на прокат остается сравнительно слабым.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Китайские предприятия, для которых каникулы были продлены на неделю, с 10 февраля, по идее, должны вернуться к работе. Однако очевидно, что полноценного возвращения не получится. Правительство КНР воспринимает угрозу коронавируса как смертельно серьезную. По сравнению с ней экономика уходит далеко на задний план. Фактически треть страны находится на карантине. Это означает, что рабочие, уезжавшие на праздники в родные деревни, не могут пока вернуться на свои заводы.
Именно по этой причине многие предприятия не смогут запуститься или будут функционировать с неполной загрузкой мощностей. Не возобновятся работы и на стройках. В некоторых районах их старт отложен еще на две недели, пока прибывшие работники не отбудут карантин. На юго-востоке страны пауза, по оценкам китайских специалистов, может продлиться до начала или даже до конца марта.
Китайскую металлургическую промышленность эти проблемы пока затронули в наименьшей степени. По состоянию на 9 февраля, не сообщалось об остановке доменных печей из-за нехватки рабочих рук или коронавируса. Однако в стране падает видимое потребление стальной продукции. По подсчетам S&P Global Platts, потери за февраль могут составить 31-43 млн. т по сравнению с обычной ситуацией. Точно так же обваливается видимый спрос на медь, нефтепродукты, природный газ, 60% которого используется в Китае в промышленности. Все они, особенно, сжиженный газ (LNG) резко подешевели. Неизбежным выглядит и падение котировок на железную руду.
Более серьезную угрозу для мировой экономики представляют простои китайских предприятий, выпускающих комплектующие, а также перебои в работе портов. В Австралии суда, прибывшие из Китая, уже отстаиваются на рейде по две недели на карантине. Нарастает хаос в контейнерных перевозках. Грузы, предназначенные для Китая, выгружаются в Корее с расчетом на то, что через какое-то время контейнеры можно будет переправить по назначению. Компания Hyundai уже столкнулась с проблемами из-за недопоставок комплектующих их Китая, а поставки айфонов могут сорваться из-за нехватки людей на сборочных заводах.
Для стальной продукции первая неделя февраля выдалась еще сравнительно нормальной. Цены, безусловно, падали в Азии, где заготовка и горячекатаный прокат понизились на $15-25 за т. Правда, в самом Китае котировки на биржах повалились только 3 февраля, в первый день торгов, после чего произошла стабилизация.
В других регионах слабым местом оказалась, прежде всего, Турция, где на $10-20 за т подешевел металлолом, спровоцировав аналогичный спад на рынках заготовки, сортового и листового проката. Уменьшение стоимости турецких горячекатаных рулонов на экспорте остановило рост цен на данную продукцию на юге Европы.
В то же время, распространение по миру китайских проблем безусловно скажется и на стальной продукции. Важно даже не сужение спроса вследствие перебоев с поставками товаров из Китая и в Китай, а восприятие обстановки. В глобальной экономике и так не благополучно, а коронавирус, если эпидемия не пойдет на спад в ближайшие две-три недели, вполне в состоянии сыграть роль «черного лебедя» — непредвиденного, но крайне негативного фактора, способного спровоцировать глубокий и продолжительный кризис.
На российском рынке влияние китайских событий пока выглядит пренебрежительно малым. К счастью, пока нет необходимости проведения у нас серьезных карантинных мероприятий. Отечественная промышленность и даже потребительский рынок сравнительно мало зависят от поставок из Китая. Да, падение цен на нефть и рекордный в истории обвал сжиженного природного газа – это неприятно. Но в условиях «бюджетного правила», профицитного бюджета, минимального внешнего долга и наличия обширных финансовых резервов – не опасно.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

В России приступило к работе новое правительство, в Давосе состоялся Всемирный экономический форум, а в Китае празднуют Новый год по местному календарю, который, правда, оказался испорченным вспышкой зловредного коронавируса, ставшего достаточно серьезным экономическим фактором, — такими событиями запомнилась прошедшая неделя.
Для российского и мирового рынка стали она выдалась относительно спокойной, но проявившиеся в последнее время тенденции выглядят не слишком благоприятными для отечественных металлургов и потребителей их продукции. Экспортные котировки на нее прекратили подъем, а на некоторых рынках начали снижаться. Наметился спад в Турции, а в Восточной Азии рост держится, по сути, на Индии, где местные производители резко уменьшили экспорт благодаря активизации внутреннего рынка.
В России повышение котировок, на котором настаивают сталелитейные предприятия, наталкивается на низкий спрос. Причем, если в секторе листового проката производители могут справедливо указывать на ограниченный объем предложения, то объективных причин для удорожания сортового проката нет, кроме, разве что, увеличения стоимости металлолома.
В целом Китай завершил очередной год по местному календарю на оптимистичной ноте. Правительству удается поддерживать достаточно высокие темпы экономического роста за счет инвестиций в строительство и инфраструктуру. Машиностроение занято выполнением заказов по модернизации промышленности и энергетики, где полным ходом идет замена мощностей, созданных на заре индустриализации в начале XXI века, на суперсовременные предприятия, отвечающие самым передовым техническим стандартам.
Правда, власти при этом стараются притормозить слишком уж разогнавшихся промышленников. В 2019 г. в Китае было выплавлено лишь немногим менее миллиарда тонн стали. В прошлом году весь этот объем удалось куда-то растыкать, но повторять такие подвиги год за годом не под силу ни одному Гераклу, даже китайскому. Местные специалисты дружно предсказывают, что в текущем году потребление стали в стране прибавит не более 1,5-2% по сравнению с 2019 г. Отметим, что такие же прогнозы выдавались год назад, но тогда замедлить экспансию не удалось. Сейчас мы, наверное, увидим вторую попытку.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

С самого начала было видно, что 2020 г. стартует, как говорится, с места в карьер, без «раскачки». Но такой концентрации важных событий, как в прошедшую неделю, давно не было. Одно только послание президента Федеральному собранию заслуживало серьезного внимания. А ведь за ним последовали отставка правительства и назначение нового премьер-министра, кандидатура которого стала неожиданностью для подавляющего большинства наблюдателей! За рубежом важную роль сыграло, прежде всего, подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем.
На прошлой неделе США и Китай поставили если не точку, то, по крайней мере, запятую в своей длительной торговой войне. Правда, так называемое соглашение о первой фазе производит достаточно странное впечатление. По-видимому, Китай купил себе еще немного времени, чтобы успеть перестроить свою экспортно ориентированную экономику в большей степени на внутренний рынок, а также продвинуть как можно больше своих товаров в развивающиеся страны Африки и Азии, чтобы хотя бы частично заместить ими США. Что же касается американского президента Дональда Трампа, то он смог записать себе в актив очередную «перемогу» и больше не трогать эту тему до выборов в ноябре.
Наибольшее внимание в этом соглашении, конечно, привлекло обещание Китая увеличить импорт американских товаров и услуг, в частности, энергоносителей и сельхозпродукции на $200 млрд. за два года. В этом списке значатся, в частности, даже стальная продукция и редкоземельные элементы — очевидно, американский концентрат, который для обогащения отправляют в Китай. Однако, Китай, во-первых, в прошлом году уже давал похожие обещания и легко отказывался от них в ходе очередного раунда торгового конфликта. А, во-вторых, в соглашении есть оговорка о том, что закупки американских товаров будут осуществляться на общих основаниях в зависимости от коммерческих соображений и рыночных условий.
Между тем, в Китае все еще действуют импортные пошлины на очень широкий ряд американских товаров, включая сжиженный природный газ, нефтепродукты, уголь, концентрат редкоземельных элементов и многое другое. Их ставка составляет порядка 25-30%, и их пока не отменили. Вот когда (и если) тарифы обнулят, можно будет говорить о возможности реального расширения американского экспорта в КНР. Поэтому не исключено, что договаривающиеся стороны до ноября будут просто держать «покерфейс» и вести вялые переговоры о второй фазе, которые ни к чему не приведут, так как потребуют слишком больших уступок от Китая или отказа от претензий к КНР со стороны США.
Впрочем, для вида пока все хорошо. И на мировом рынке листового проката тоже все хорошо. Цены на него стабильно поднимаются. Индийские компании стремятся довести экспортные котировки на горячекатаные рулоны до $500 за т FOB. В Турции это уже пройденный этап, и там продвигают $510-520 за т, а в Европе ArcelorMittal намеревается вывести рынок на отметку 500 евро за т EXW. Так что, и у российских металлургов в данный момент есть все основания рассчитывать на подорожание своего горячекатаного проката до $500 за т FOB по мартовским контрактам. Очевидно, будут расти котировки на листовую продукцию и в России.
С сортовым прокатом не все так благостно. Арматура не идет вверх ни в Турции, ни, по большому счету, в Европе. В Азии уже 25 января будут праздновать Новый год по китайскому календарю, так что рынок находится где-то между стагнацией и спадом. Стоимость металлолома в Турции упала от около $300 до менее $290 за т CFR, так что на очереди — удешевление заготовки. Поэтому российским компаниям, скорее всего, придется отказаться от дальнейшего увеличения стоимости арматуры в России, а может, и откорректировать цены в сторону понижения.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»
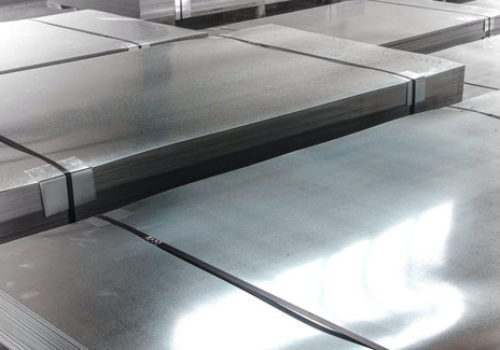
Как сообщает китайское издание «Shanghai Metals Market» (SMM), в декабре 2019 г. производство нержавеющей стали в стране составило 2,403 млн. т, что на 1,7% меньше, чем в ноябре, но на 9,1% превышает показатель аналогичного месяца предыдущего года.В целом в 2019 г, согласно данным SMM, в Китае было выплавлено около 28,2 млн. т нержавеющей стали. Это на 8,9% больше, чем годом ранее.
В начале января в стране был анонсирован еще один проект в сфере производства нержавеющей продукции. Компания Linyi Iron and Steel Investment Group из провинции Шаньдун в феврале планирует начать строительство нового завода мощностью 700 тыс. т нержавеющих слябов в год.
На предприятии планируется установить 90-тонную ЭДП, 30-тонную печь вакуумной переплавки для получения сплавов на основе никеля и хрома, а также три печи для рафинирования металла, включаю одну установку «печь-ковш», слябовую МНЛЗ и прочее оборудование. Ввод в строй завода намечен на первый квартал 2022 г.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Дорогие друзья, с Новым годом!
Уходящий год стал для нас временем продуктивных и взаимовыгодных отношений с Вами, обмена опытом и просто приятного общения! Мы благодарны Вам за это, и все лучшее и радостное, что оставил нам истекший год – возьмем с собой в наступающий. Пусть 2020 год станет для всех Вас основой для добрых перемен, новых знаменательных событий, финансовой стабильности!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, неистощимого оптимизма, бодрости, благополучия и любви! Достатка, благополучия, взаимовыгодных деловых отношений, надежных партнеров и успехов в любых начинаниях.

Как год начинаешь, так его и проведешь — эта поговорка внезапно оказалась актуальной для рынка стали. Интересно, но цены на основные виды стальной продукции на рынках Восточной Азии, Ближнего Востока, отчасти России и Китая в самом конце 2019 г. оказались примерно такими же, как и в самом его начале. При этом причины совпадений и отклонений выглядят весьма показательными.
Начнем с нашего отечественного рынка. На споте горяче- и холоднокатаный прокат котируется сейчас с незначительным минусом по сравнению с началом января 2019 г. Для арматуры и оцинкованной стали это отставание увеличивается до около 10%. Но это, если считать в рублях. А ведь отечественная валюта за год прибавила по отношению к доллару порядка тех самых 10%.
Для участников российского рынка серьезными проблемами, появившимися, конечно, не вчера, но обострившимися уже до предела, стали резкое падение прибыльности бизнеса и разрушительная ценовая конкуренция. Сплошь и рядом на тендерах побеждает бессмысленный и беспощадный демпинг. Компании сбивают цены ниже уровня себестоимости, а потом срывают обязательства или недопустимо экономят на качестве. Причем если закон о госзакупках теоретически можно изменить с помощью поправок и распространения лучших практик, то что делать с бизнесом, который подрывает как позиции конкурентов, так и свои собственные? Пожалуй, с этим можно справиться только кардинальным улучшением рыночной обстановки. Нужен прилив, который приподнимает все лодки!
Основным источником проблем в 2020 г. будут Штаты. Так было и так будет, для этого не надо быть провидцем. Наступающий год в США — выборный, а значит, возможны любые сюрпризы, в основном, гадостные. Можно предположить, что нынешняя администрация не станет слишком уж «раскачивать лодку» и устраивать новые торговые войны. Значит, и у мировой экономики в целом есть шансы относительно благополучно прожить ближайшие месяцы. Но перипетии американской внутриполитической борьбы могут привести к самым причудливым и опасным вывертам.
Второй по значению фактор неопределенности на мировом рынке стали — Китай. Это единственный из регионов, где стоимость стальной продукции в конце года оказалась ненамного, но выше, чем в начале. Тут основной вопрос заключается в следующем: станет ли правительство КНР притормаживать рост экономики и металлопотребления или продолжит раскручивать их и дальше, чтобы компенсировать за счет внутреннего рынка выпадающие экспортные доходы? В конце 2019 г. ряд китайских и западных экспертов, включая Worldsteel, прогнозировали замедление. Верится пока что с трудом. Уж очень много проблем вылезет наружу в Китае, если вдруг упадут темпы роста.
Турецкая экономика будет постепенно выбираться из кризиса, но местные компании сохранят свои экспортные объемы. Европа будет колебаться между стагнацией и депрессией и все глубже уходить в зеленое безумие. При этом борьба с выбросами углекислого газа, очевидно, станет поводом для усиления протекционизма. В 2019 г. цены там упали где-то на 10%. Пока, в начале 20-го, ожидается рост, хотя и дохловатый.
Очень неоднозначной выглядит ситуация с Индией. Спад летом 2019 г. разразился внезапно, но у него глубокие корни. Правительство обещает поддержать экономику посредством инвестиций в инфраструктуру, но сможет ли оно справиться с кредитным кризисом и заставить банки возобновить финансирование реального сектора и потребительского рынка — большой вопрос. Не исключено, что индийские металлурги в 2020 г. будут снова проводить агрессивную экспансию на внешних рынках.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Цены на мировом рынке стали растут, будут продолжать рост до конца года и, по-видимому, прибавят в январе. По крайней мере, именно так выглядят нынешние тенденции и процессы.
Повышение происходит сейчас сразу в нескольких регионах. Для российских металлургов важнейшую роль играет, бесспорно, Турция — крупнейший покупатель отечественной стальной продукции. Там отправной точкой является резкое подорожание металлолома, прибавившего за последние два с половиной месяца более 30%.
Лома сейчас не хватает из-за сократившихся объемов заготовки, лом в дефиците, лом дорос почти до $300 за т CFR, поэтому турецкие металлургические компании стремятся поднимать в ответ цены на прокат, стимулируя их повышение по всему региону. Заготовка российского производства преодолела отметку $400 за т FOB, достигнув максимального уровня с середины августа, а в отношении горячекатаных рулонов турецкие производители ориентируются на $500 за т FOB. И если бы не депрессия в промышленности и строительной отрасли Европейского Союза, препятствующая подъему котировок на стальную продукцию, этого уровня вполне можно было бы добиться. Впрочем, возможно, выход на этот рубеж просто состоится немного позже.
Во многом под влиянием этого всемирного повышения растут цены на стальную продукцию и в России. Металлургические компании уже анонсировали на январь увеличение стоимости горячекатаного проката, скорее всего, то же самое ждет и арматуру. Осталось только решить вопрос с соответствующим подорожанием на спотовом рынке, однако впереди Новый год, а значит, клиентам вполне можно «положить под елочку» и новые цены. Два года назад такой трюк получился, так почему бы и не повторить?!
В последнее время китайская экономика демонстрирует высокие результаты. По подсчетам центрального планового института китайской металлургической промышленности, в 2019 г. видимое потребление стальной продукции в строительной отрасли должно увеличиться на 11,2% по сравнению с показателем годичной давности и достигнуть 478 млн. т. Как говорится, инфраструктурное и жилищное строительство рулят и мчатся вперед! Общегосударственный показатель оценивается в 866 млн. т, на 7,3% больше, чем в 2018 г.
Правда, тот же самый институт прогнозирует на будущий год снижение спроса на прокат в строительном секторе и всей китайской экономике в целом на 0,6% по сравнению с 2019 г. Соответственно, на 0,7% должно сократиться и производство стали, которое так и не дойдет до миллиарда тонн в год. Честно говоря, отношение к такому прогнозу двойственное. С одной стороны, раскручивать рынок с помощью мер государственного стимулирования и сооружения кредитных пирамид страшновато. Ведь каждый следующий уровень должен оказаться больше предыдущего, а так можно и уткнуться в естественные пределы роста.
Однако, с другой стороны, замедление темпов роста с +11,2 до -0,6% за один год — это сильнейший шок для строительной отрасли и экономики в целом. Особенно, учитывая, что как раз в 2020 г. ожидается довольно существенный прирост мощностей по выплавке чугуна и стали за счет замены старых металлургических предприятий и производственных линий новыми. Китай уже пытался устроить «мягкую посадку» для своей экономики в 2014-2015 гг. Результаты оказались обескураживающими.
Впрочем, год назад многие уважаемые специалисты, включая Worldsteel, предсказывали для Китая скромный рост металлопотребления в 2019 г. на 1,5-2,5%, а вот оно как в итоге получилось! Можно предположить, что если США временно оставят Китай в покое, а международная торговля в 2020 г. хотя бы перестанет падать, у правительства КНР не будет такой острой необходимости подстегивать экономический рост. Тогда строительный сектор и в самом деле можно будет притормозить. Но в этом случае на первый план вылезут проблемы в машино-, автомобиле-, судостроении, других отраслях. По итогам 2019 г. в Китае ожидается первое за тридцать лет снижение объемов потребления алюминия, а это весьма тревожный признак.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

На мировом рынке стали наконец-то рост. За последние две недели стоимость листового проката в различных регионах поднялась на $20-30 за т и продолжает прибавлять. Очередное подорожание металлолома в Турции открыло возможности для нового повышения цен на заготовку и сортовой прокат.
Благоприятная конъюнктура на внешних рынках оказывает воздействие и на российский. Отечественные металлургические компании готовы снижать цены по ноябрьским и даже декабрьским контрактам, но после Нового года они намечают отскок, предлагая потребителям закупаться сейчас, пока есть возможность.
Индийский рынок прибавил в последние несколько недель, в основном, на обещаниях новых государственных инвестиций в инфраструктурные проекты, тогда как частный сектор продолжает испытывать проблемы из-за сократившихся объемов кредитования. В Евросоюзе основную роль играют такие факторы как пополнение запасов и временное закрытие части мощностей. Над турецкими металлургами возникла угроза запуска антидемпингового расследования по горячекатаному прокату в ЕС.
В российской экономике проблемы те же: низкие темпы экономического роста и слабый спрос на спотовом рынке, а также со стороны секторов строительства и ЖКХ. Зато, можно сказать, обстановка несколько прояснилась. Неутешительные итоги первого года реализации национальных проектов потребовали проведения анализа причин неудач и помогли, по крайней мере, поставить диагноз. Так, очень познавательным в этом плане стал форум «Инфраструктурные инициативы бизнеса», проведенный 29 ноября под эгидой РСПП.
Как известно, расширение транспортной инфраструктуры – крупнейший из национальных проектов по масштабам и затратам. Только в 2019 г. на эти цели было направлено 2,4 трлн. руб. По словам первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова, комплексный план, который надо выполнить до 2024 г., — это самый минимум, чтобы иметь в стране развитую инфраструктуру, обеспечивающую удешевление доставки грузов и ускорение транспортировки людей. И, конечно, это несколько миллионов тонн дополнительного спроса на стальную продукцию.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

В прошедшую неделю на первый план снова вышел вопрос об ускорении экономического роста в России. Он обсуждался в Государственной Думе, где приняли во втором чтении бюджет на 2020-2022 гг., об этом говорил президент на инвестиционном форуме «Россия зовет». Все это происходило на фоне противоречивых процессов в отечественной экономике и неопределенного уровня цен на стальную продукцию. На мировом рынке стали при этом происходило повышение, которое может в конечном итоге оказаться лишь непродолжительным отскоком.
Итак, какой «пинок» и в каком направлении нужно приложить к экономике нашей страны, чтобы она наконец пошла на подъем и потянула за собой вверх потребление стальной продукции?! По первому впечатлению, в отечественных властных кругах сделали вывод о том, что идея с национальными проектами была правильной, надо только провести ее в жизнь с учетом реального опыта текущего года и, очевидно, проводящейся сейчас работой над ошибками. Что из этого получится, мы, скорее всего, увидим уже весной.
В 2020 г. основными исполнителями национальных проектов, очевидно, станут региональные власти. Заявлено о том, что регионы будут получать финансирование с начала года, без перенесения большей части бюджетных расходов на ноябрь и декабрь, что мы видим в текущем году. Также принятый трехлетний бюджет предусматривает расширение поддержки «отстающих» регионов и снятие с них долгового бремени ради стимулирования инвестиций.
Уже много раз говорилось о том, что российская экономика развивается очень неравномерно. Состоявшаяся недавно выставка «Металл-Экспо 2019» в очередной раз подтвердила этот тезис. В ходе общения с ее участниками и посетителями можно было услышать массу совершенно различных отзывов. Одни работали на стендах, буквально, не разгибаясь, проводя переговоры, а порой и заключая соглашения. Другие жаловались на низкий интерес к их компаниям и экспозициям и сетовали на то, что у их традиционных партнеров нет денег даже на командировку своих сотрудников в Москву.
Текущая обстановка в их рыночных нишах характеризовалась и как оживленная, и как депрессивная. Многие ругали государственную политику, но кто-то сообщал об успешном участии в поддерживаемых государством программах и реализации проектов с помощью Фонда развития промышленности. Впрочем, да. На недостаточную господдержку сетовали очень многие, но наиболее успешные компании прекрасно обходились и без нее. И деньги (вернее, их отсутствие), как ни странно, для них не такая уж большая проблема.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

В первую неделю ноября на мировом рынке стали обнаруживались в целом положительные тенденции. Цены на стальную продукцию поднимались, и это может оказать воздействие и на обстановку в России.
Рост затронул все основные регионы. В Турции продолжил дорожать металлолом, и это может подтолкнуть вверх заготовку и сортовой прокат. Европейские металлургические компании намерены повысить котировки на все виды стальной продукции на 20-40 евро за т, используя в качестве повода тот же металлолом, а также конфликт вокруг итальянского меткомбината Ilva, где одним из вариантов возможного развития событий является остановка предприятия. В США, где цены на горячекатаный прокат за последние две недели возросли на $30-35 за т, корпорация Nucor анонсировала новое повышение.
Немного улучшилась обстановка в Индии. Местные производители прекратили демпинговать и немного приподняли экспортные котировки. Под влиянием этого фактора слегка отскочили вверх цены во Вьетнаме и других странах Восточной Азии. Китай остается стабильным, а национальные металлургические компании сокращают экспорт в пользу более выгодных продаж на внутреннем рынке. Более того, китайцы стали импортировать горячекатаные рулоны из Кореи и России, чего не бывало с 2009 г.
Таким образом, и у российских компаний появилась возможность для повышения экспортных котировок на заготовку и листовой прокат, по меньшей мере, на $10-20 за т по сравнению с прошедшим месяцем. Этот фактор может оказать влияние на ценовые переговоры, которые будут происходить на Международной промышленной выставке «Металл-Экспо», что пройдет в Москве на этой неделе, с 12 по 15 ноября. Потребители требуют понижения заводских котировок и пересмотра условий по контрактам с августа по октябрь, но в нынешних обстоятельствах удешевление может оказаться меньшим, чем ожидалось.
В то же время, подорожание на мировом рынке не выглядит устойчивым и долговременным. Это отскок после длительного спада, начавшегося еще летом. В его основе лежат не столько процессы, сколько определенные события и ожидания.
Прежде всего, это возможное заключение торгового соглашения между США и Китаем. Заявлялось, в частности, что стороны могут отменить часть тарифов, введенных на продукцию друг друга, однако этот вопрос, похоже, еще не решен. Нет определенности в отношении сроков. Сперва СМИ называли середину ноября, потом декабрь, а затем американские представители сообщили, что до 15 декабря планируется только согласовать условия, а само подписание, возможно, состоится «до конца 2019 г.». Впрочем, факт наличия каких-то предварительных договоренностей, которые позволят сторонам согласовать некие второстепенные вопросы, сам по себе будет оказывать положительное воздействие на настроения участников рынка.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»
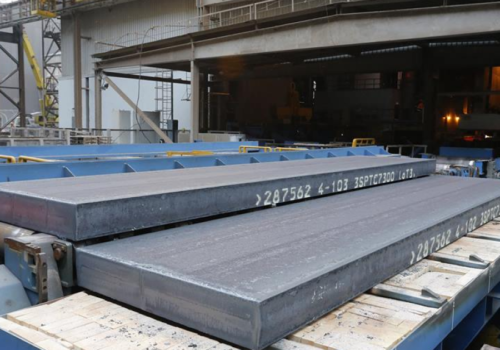
Прошедшая неделя выдалась для рынка стали разнообразной. На Ближнем Востоке продолжилось повышение цен на металлолом, поставляемый в Турцию, которое потянуло за собой вверх заготовку и сортовой прокат. Благодаря этому отечественные металлурги увидели возможности для увеличения стоимости арматуры в ноябре. Несколько улучшилась обстановка в Китае, прекратилось падение внутренних котировок в Индии. Однако листовой прокат продолжил снижаться как в России, так и на внешних рынках. А мрачных прогнозов нового глобального экономического кризиса не становится меньше.
Действительно, мировая экономика производит впечатление этакого «тришкина кафтана», который пока что удается более-менее успешно подштопывать. Видимое относительное благополучие пока сохраняется несмотря на повсеместное снижение темпов роста ВВП и падение в германской, японской, южнокорейской, американской промышленности. Корпорации «зомби» поддерживаются в сравнительно живом виде за счет постоянной кредитной подпитки. Да и предоставляющие им средства финучреждения тоже не в обиде.
США, Евросоюз, даже Китай вернулись к знакомой практике 2008-2009 гг. и приступили к заливанию финансового сектора деньгами, выкупая у банков американские гособлигации и прочий мусор. Причем проявляют в этом нехитром деле столько энтузиазма, что, по данным американского издания «Wall Street Journal», к концу 2020 г. Европейский центробанк выкупит евробонды. У американской ФРС резерв по времени еще меньше: в последние дни она крутит в сделках РЕПО уже по $120 млрд. в день.
Проблема в том, что все эти процессы практически никак не затрагивают реальную экономику. Там ускоряется падение спроса. Только за последнюю неделю о достаточно серьезном сокращении капиталовложений на ближайший год заявили индийская корпорация JSW, второй по величине производитель стали в стране, и крупнейшая канадская горнодобывающая компания Teck Resources. И это только те, кто оказались на виду. О сокращении выпуска стальной продукции в последние месяцы текущего года и выведении из эксплуатации части мощностей заявили итальянская Arvedi и шведская SSAB. В Малайзии Министерство промышленности и международной торговли рекомендует установить мораторий на новые металлургические проекты, если они не предусматривают выпуск импортозамещающей продукции.
В Китае, как всегда, все неоднозначно. Спрос на стальную продукцию там поддерживается крупными инфраструктурными проектами, которые финансируются государством. В ряде крупных городов продолжают действовать жесткие ограничения на производство ЖРС, чугуна и стали. Импорт металлолома блокируется, из-за чего многие мини-заводы вынуждены сбавлять обороты. Дело дошло до того, что Китай превратился в весьма крупного импортера заготовки (360 тыс. т в сентябре), а недавно впервые с 2009 г. начал импортировать горячекатаный прокат. Местная ценовая стабильность и продолжающееся падение котировок в Азии из-за жесткой конкуренции этому вполне способствуют.
В общем, цены на мировом рынке стали по-прежнему склонны к понижению, но благодаря каким-то полуслучайным шансам они могут достигать временной стабилизации или даже подскакивать вверх. Однако для устойчивого повышения нет никаких условий. Российский горячекатаный прокат может вскоре прекратить падение, но даже вернуться на уровень $400 за т FOB будет не самой простой задачей, пока с рынка не начали уходить в массовом количестве наиболее слабые игроки.
Негативные тенденции наблюдаются и на отечественном внутреннем рынке. Меткомбинаты пошли на серьезные уступки, существенно опустив отпускные цены на горячекатаные рулоны, но от них ждут новых шагов в том же направлении. По сравнению с «экспортным паритетом» нынешние котировки действительно производят впечатление завышенных. При этом еще в игру толком не вернулся «АрселорМиттал Темиртау», у которого фактически весь год пошел насмарку из-за аварий и ремонтов.
Одним словом, в нынешней ситуации определенными остаются только неопределенность, волатильность и неоднозначность. Мы по-прежнему стоим на развилке, с которой уходит множество путей, а все вокруг заволокло туманом. Но и в нем можно заметить и различить некие ориентиры.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

События в мировой политике и экономике продолжают закручиваться во все более тугой узел. Одним из отражений этих процессов является мировой рынок стали, где продолжают развиваться негативные тенденции. Такая же неблагоприятная обстановка наблюдается и в России, где уже несколько месяцев подряд дешевеет арматура, а сектор листового проката балансирует на грани обвала. Конечно, это не отменяет отдельных улучшений, но они происходят на локальном уровне и, как правило, определяются краткосрочными, а то и вовсе случайными факторами.
К таковым, например, можно отнести повышение цен на металлолом в Турции на $10-15 за т за последние две недели. Под влиянием этого скачка пошли вверх котировки на турецкую арматуру, а также на заготовку производства СНГ. Вот только в основе этого подорожания лежат несколько (менее десятка) сделок, заключенных турецкими мини-заводами, которые по каким-либо причинам не успели обеспечить себя ломом на ноябрь до начала октября, а теперь вынуждены срочно пополнять запасы и переплачивать.
Основное направление движения цен на мировом рынке по-прежнему направлено вниз. Относительно мирно прошедшие переговоры между США и Китаем, состоявшиеся 10-11 октября, никого не обманули и ни в чем не убедили. Ну, отложили американцы введение новых пошлин на китайские товары, и что? Пройдет немного времени, и конфронтация возобновится. Тем более, что США начали новый раунд торгового конфликта, теперь уже с Евросоюзом, которому еще надо как-то решить вопрос с «брекситом». Да, условия в целом согласованы, но протащить их через британский парламент будет не так просто.
В середине октября достаточно серьезные проблемы проявились в США и Китае. В Америке цены на горячекатаные рулоны всего за две недели рухнули на $40-50 за т и впервые с лета 2016 г. опустились ниже отметки $500 за короткую т ($551 за метрическую т) EXW за базу. Основной причиной этого внезапного обвала местные специалисты называют стартовавший в обход закона и по совершенно надуманной причине процесс импичмента президента Дональда Трампа. Это воспринимается как сильнейший фактор неопределенности для экономики страны.
В Китае на первый план вышли экономические вопросы. В третьем квартале темпы экономического роста опустились до самой низкой отметки с тех пор, как этот показатель начали измерять и публиковать в марте 1992 г. И хотя для подавляющего большинства других стран китайские 6,0% были бы пределом мечтаний, проблема не в цифрах, а в их динамике. Китайская экономическая модель базируется на поддержании высоких темпов роста. А они, в свою очередь, обеспечиваются за счет сильнейшей кредитной накачки. Только за сентябрь китайские банки выдали населению, местным властям и корпорациям 1,69 трлн. юаней (почти $240 млрд.) новых займов. А общий объем задолженности превысил показатель аналогичного месяца прошлого года на 12,5%.
Впрочем, нечего пенять на Америку, у нас самих дела идут тоже не слишком хорошо. Российская экономика так же задыхается от безденежья, хотя, в отличие от США, значительная часть средств у нас все-таки тратится по делу — на освоение Арктики, атомную энергетику, авиа- и судостроение, магистральные газопроводы, расширение производства сжиженного газа, железные дороги… Но прочий бизнес, не связанный с приоритетными отраслями и находящийся ниже определенной размерной планки (к слову сказать, очень высокой), испытывает большие проблемы.
Как говорится, спотовый рынок стальной продукции не дает соврать. В последние месяцы видимый спрос на нем сужается, а платежеспособность многих покупателей ухудшается. Национальных проектов просто не видно. Такое впечатление, что даже те деньги, которые были на них израсходованы, не только не дошли до реальных исполнителей, но и не трансформировались в элитное потребление, какие-либо «сторонние» проекты или что-то иное. Они просто оказались выключенными из экономики.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Безусловно, давление на рынок продолжает оказывать такой мощный фактор как неудовлетворительная экономическая обстановка в мире. Начало октября выдалось богатым на тревожные заявления. Сначала Мировой банк понизил прогноз по темпам роста международной торговли в 2019 г. от 2,6 до 1,5%. А затем новая глава МВФ Кристалина Георгиева предсказала на текущий год спад глобального ВВП на 0,8% и ухудшение макроэкономических показателей большинства стран мира до самого низкого уровня за последнее десятилетие.
Особенно беспокоит МВФ растущая долговая пирамида, размер которой в глобальном масштабе достиг $250 трлн. Из них порядка $19 трлн. приходится на проблемный и потенциально проблемный корпоративный долг, который в случае экономического спада может сыграть роль детонатора и погрузить весь мир в затяжной структурный кризис.
В принципе, такие опасения выглядят вполне обоснованными. Мировая экономика задыхается в тисках сужающегося платежеспособного спроса, в то время как триллионы вбрасываемых в нее эмиссионных денег практически целиком уходят на надувание пузырей на финансовых рынках. Большой бизнес в своих действиях все больше напоминает колонию бактерий, которая не успокоится, пока не выжрет целиком все доступные ресурсы, а потом тупо сдохнет от голода. Конечно, в мире есть такие страны как Китай или Россия, где государство способно укоротить бизнес в его неуемных аппетитах или, по крайней мере, контролирует значимую часть экономики. Но от этого сильно спокойнее не становится.
Впрочем, кризис — опасность постоянная, но достаточно отдаленная. По крайней мере, пока все камешки находятся на местах и ни один из них не сорвался, чтобы вызвать лавину. Ближайшие же перспективы во многом будут определяться итогом торговых переговоров между США и Китаем, состоявшихся 10-11 октября. Принципиальных договоренностей стороны на них не достигли — да и не могли, учитывая глубину разделяющих их противоречий, но общую напряженность все-таки немного понизили. Это даст передышку еще на какое-то время.
Китайский рынок стали между тем находится в состоянии полного раздрая. С одной стороны, правительство там что-то делает для поддержки экономики. Потребление стальной продукции, по оценкам национальной металлургической ассоциации CISA, выросло в этом году в такой степени, что дало возможность утилизировать 55,5 млн. т дополнительного (по сравнению с тем же периодом прошлого года) металла за восемь месяцев. Однако, с другой стороны, у Китая есть немало проблем, включая торговую войну со США, рост тормозится. Поэтому значительно ухудшились ожидания участников рынка.
Сбавляют экспортные котировки и российские компании. А еще быстрее им приходится сбрасывать цены на внутреннем рынке. Ранее слабый российский спрос можно было компенсировать внешними заказами, но теперь все изменилось. Для некоторых компаний нынешние цены на заготовку за рубежом стали убыточными. Возможно, на очереди — горячекатаный прокат, если считать стоимость железной руды с использованием международных спотовых индексов.
Вероятно, для российской экономики новый глобальный кризис будет не настолько тяжелым, как в 2008 г., из-за наличия значительных резервов и меньшей зависимости от экспорта энергоресурсов и критического импорта. Но это не снимает вопрос о крайне низких темпах роста. Переходный период в строительном секторе только начался и проходит очень тяжело, средний бизнес испытывает хронический дефицит средств из-за усиления фискального давления и падения рентабельности, а тут еще и государство не хочет помогать экономике.
Данные об исполнении государственного бюджета за девять месяцев — это вообще диагноз! По данным Министерства финансов, в январе-октябре было получено 74,5% от запланированных на год доходов или 15,03 трлн. руб., но расходы были профинансированы только на 65,9% от годового плана и составили 12,05 трлн. руб. Беспрецедентный профицит лишь немного не достал до 3 трлн. руб. и составил 3,8% от ВВП. За девять месяцев только для социальных статей траты государства приблизились к положенным 75% от годовых. В то же время, расходы на оборону и безопасность были профинансированы менее чем на 63%, на общегосударственные вопросы — на 53,5%, на ЖКХ — на 54,6%, а на экономику — всего на 49,5%.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Как сообщил на конференции IREPAS (International Rebar Exporters and Producers Association) в Дюссельдорфе коммерческий директор испанской компании Celsa Group Ким Марти, в первой половине 2019 г. видимое потребление сортового проката в мире прибавило 10% по сравнению с тем же периодом годичной давности. Но спад во втором полугодии приведет к тому, что рост по итогам всего текущего года составит только 2,4%, до 851 млн. т.
По расчетам Кима Марти, в январе-июне 2019 г. потребление арматуры было близким к отметке 200 млн. т, что стало наивысшим показателем за последние десять лет. При этом 69% спроса пришлось на Китай и другие страны Азии.
В 2019 г. в целом потребление арматуры, между тем, оценивается в 390 млн. т, примерно на 2% больше, чем в 2018 г. Подъем в китайской строительной отрасли будет в значительной мере компенсирован спадом в Северной Америке, Западной Европе и Турции.
Ослабление индийского рынка арматуры в третьем квартале текущего года, по мнению Кима Марти, будет иметь временный характер. В дальнейшем рост возобновится. В ближайшие годы спрос на арматуру ускорится также в странах Ближнего Востока и Северной Африки до 6% в год, тогда как в Азии произойдет снижение этого показателя до 4%. Китайский рынок будет расширяться вследствие государственной поддержки строительного сектора, но медленнее, чем сейчас.
Быстрее всего в текущем году, по оценкам Кима Марти, увеличивался спрос на качественный сортовой прокат. А вот потребление катанки стагнирует, в основном, вследствие депрессии в автомобилестроении, особенно, европейском.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

По данным Национального бюро статистики КНР (NBS), в августе в стране было произведено 528 тыс. т рафинированного цинка, что стало рекордным показателем с декабря 2017 г.
Всего за восемь месяцев объем производства цинка в Китае достиг 4,03 млн. т, что на 8,2% больше, чем годом ранее. Спрос на этот металл увеличился, прежде всего, в строительном секторе, включая цинкование металлоконструкций.
В то же время, китайские компании сократили выпуск цинкового концентрата. В августе, как сообщает издание «Shanghai Metals Market» (SMM), объем производства составил 359 тыс. т в переводе на чистый металл, что на 7,3% меньше, чем в том же месяце 2018 г.
Снижение добычи цинковой руды и производства концентрата объясняется проведением ремонтов на ряде предприятий, ужесточением экологических стандартов, ухудшением качества сырья на некоторых месторождениях. Поэтому китайским заводам приходится наращивать импорт концентрата.
Согласно оценкам Fitch Solutions, в ближайшие годы мировой рынок рафинированного цинка будет находиться в состоянии избытка предложения, в частности, из-за снижения спроса на этот металл в Китае. По прогнозу компании, в 2019 г. средняя стоимость цинка составит порядка $2500 за т, а к 2023 г. уменьшится до $2350 за т.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Цены на стальную продукцию на мировом и российском рынке продолжают снижаться. В первую неделю сентября дистрибьюторы в очередной раз уменьшили котировки на арматуру в прайс-листах. Сбавили цены и металлургические компании. Причем весьма вероятно, что до конца текущего месяца будут новые коррекции. Началось понижение и в секторе листового проката, где производители ранее стремились пролонгировать августовские контракты на следующий месяц.
Одна из причин этого спада на российском рынке проката заключается в ухудшении экспортной конъюнктуры. Заготовка обвалилась до минимальной отметки с весны 2017 г., а горячекатаные рулоны отечественного производства впервые с января подешевели до немногим более $450 за т FOB. И «дно», судя по всему, еще не достигнуто. Видимый спрос на стальную продукцию везде сократился. В смутные времена, когда депрессия в мировой экономике грозит перерасти в широкомасштабный кризис, никто не хочет ни покупать, ни инвестировать.
Отдельной проблемой стала конкуренция со стороны индийских компаний, которые ведут себя точь в точь как китайские производители в 2015 г. Испытывая проблемы со сбытом внутри страны, они отчаянно демпингуют на внешних рынках, сбивая цены. В Азии индийская заготовка предлагается фактически вровень с иранской, а горячекатаный прокат на Дальнем Востоке упал до $450 за т CFR, устанавливая новый ориентир для покупателей.
Индия, равно как и Китай, слишком активно стимулировала экономический рост за счет банковских кредитов. За последние годы местные банки выдали сотни миллиардов долларов займов на финансирование строительных и инфраструктурных проектов, создание новых промышленных мощностей, внедрение цифровых технологий и расширение сети телекоммуникаций. Однако когда пришло время расплачиваться, оказалось, что слишком много таких кредитов перешло в разряд проблемных. Банки отказываются предоставлять новые, что и привело к торможению темпов экономического роста, падению объемов строительных работ, сокращению выпуска автомобилей и других транспортных средств. Соответственно, значительно уменьшился и спрос на стальную продукцию, который еще недавно рос рекордно высокими темпами.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Спрос на никель в ближайшие годы будет расти высокими темпами вследствие быстрого расширения выпуска аккумуляторов для электромобилей, считают эксперты ведущих международных консалтинговых компаний. Между тем, для ввода в строй новых месторождений этого металла потребуются более высокие цены, чем в настоящее время.
Сегодня порядка 70% мирового потребления никеля приходится на производство нержавеющей стали, и только 4% или около 50 тыс. т используется аккумуляторными фабриками.
Однако компания Roskill прогнозирует, что в 2022 г. спрос на никель для изготовления аккумуляторов для электромобилей возрастет до 258 тыс. т, а доля этого сектора на мировом рынке металла приблизится к 10%. Как отмечает управляющий директор компании Red Door Research Джим Леннон, в отрасли наблюдается тенденция увеличения доли никеля в катодах. По его оценкам, она будет достигать 80%.
В 2030 г. аккумуляторы, по оценкам Roskill, будут потреблять уже 20% никеля в мире или без малого 740 тыс. т, а в 2040 г. глобальный спрос на никель достигнет 4,25 млн. т, из которых 30% или около 1,275 млн. т будет потребляться производителями источников тока.
В ближайшие годы дополнительный спрос на никель будет удовлетворяться новыми заводами в Индонезии и, возможно, на Филиппинах. Но через несколько лет на рынке этого металла может возникнуть дефицит. Для его покрытия надо будет начинать разработку новых месторождений за пределами Юго-Восточной Азии.
Но для этого цены на никель должны быть выше, чем сейчас, чтобы покрыть затраты. Тем более, что производство аккумуляторов требует повышенной чистоты металла. По оценкам компании Wood Mackenzie, для запуска новых никелевых проектов в таких странах как Австралия и Канада никель должен стоить не менее $20000 за т, а Roskill указывает в своем отчете не менее $22000 за т. При этом надо будет учитывать и доходы от продаж побочного продукта — кобальта, который тоже будет использоваться в аккумуляторах, но в намного меньших объемах.
В настоящее время цены на никель на Лондонской бирже металлов составляют порядка $15500-16000 за т.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Как сообщает издание «Shanghai Metals Market» (SMM), в июле китайские металлурги выплавили 2,53 млн. т нержавеющей стали. Это на 3,7% больше, чем в июне, и на 18,7% больше, чем в июле 2018 г. В наибольшей степени увеличился выпуск продукции 300-й серии, содержащей никель. По оценкам SMM, в августе производство нержавеющей стали в стране превысит 2,6 млн. т.
По данным Национального бюро статистики КНР, в июле 2019 г. в стране было произведено 85,22 млн. стали, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем месяце. Тем не менее, июльский результат на 4,9% превысил показатель аналогичного периода годичной давности.
Среднесуточная выплавка составила в июле 2,749 млн. т, что стало наименьшим уровнем за четыре месяца. Китайские металлургические компании несколько сократили выпуск вследствие неблагоприятных погодных условий, вызвавших сужение спроса, и дороговизны сырья.
Тем не менее, за первые семь месяцев 2019 г. объем производства стали в Китае достиг 577,06 млн. т. Это на 9% больше, чем в тот же период годичной давности.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Экспортные котировки на текущей неделе соответствуют следующим уровням: стоимость квадратной заготовки составляет 415 $/т (FOB Черное море); горячекатаного рулона — 490 $/т (FOB Черное море); холоднокатаного рулона — 560 $/т (FOB Черное море), сообщает в своем обзоре рынка компания Брок-Инвест-Сервис.
На рынке РФ в трубном прокате ценовая активность не угасает: ценовой тренд июля поднял трубу на пиковые показатели спроса и цены, что подвигло производителей рулонов эскалировать цену для трубников и дальше. В ответ на эти действия производители/трейдеры пошли на понижение цен на трубный прокат. Комментарий Северстали, что «банкет за счет активистов». Несмотря на данный ценовой разрыв, по оценкам компании, с середины августа цена стабилизируется. С конца текущей недели прогнозируется высокий спрос на круглую трубу.
Фасонный прокат в августе остается на тех же ценовых позициях, что и в июле, сохраняя устойчивый спрос.
Наиболее стабильная ситуация в плоском прокате, вызванная отсутствием избыточного предложения: плановый ремонт на Северстали, второй этап реконструкции на ММК, реконструкция на АрселорМиттал Темиртау, а осенью – на НЛМК.
В сегменте арматурного проката прошел ценовой бум, но ситуация с дефицитом мелкого профиля и невысокие запасы у трейдеров позволяют в августе управлять ситуацией.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Алюминиевая Ассоциация в текущем году ожидает сохранение спроса на алюминий на уровне прошлого года, с общим объемом рынка не менее 1,71-1,72 млн т (включая импорт полуфабрикатов и готовых алюминиевых продуктов). Такие прогнозы базируются на итогах деятельности в первом полугодии 2019 г., к главным из которых можно отнести комплекс мер по увеличению внутреннего потребления и роста внутреннего рынка. При этом стоит отметить, что на фоне замедления производства в основных алюмопотребляющих отраслях (автопром, энергосистемы, строительство и пр.) потребление алюминиевых продуктов продолжает расти за счет реализации программы развития потребления и как следствие расширения применения алюминия во всех отраслях. Наиболее явно это заметно в строительной отрасли, где преимущества строительных материалов из алюминия становятся все более очевидными для потребителей как при реализации инфраструктурных проектов, так и в секторе жилищного строительства, поскольку существенно улучшают качество жизни. Так, например, алюминиевые конструкции рекомендованы для программы реновации жилья в г. Москве. В результате использования современных технологичных и долговечных алюминиевых конструкций (теплые окна, входные группы, навесные фасады, корзины для кондиционеров и пр.) использование алюминия в новых домах достигнет 5,6 кг на 1 кв. м. (для сравнения в домах до реновации – 1,5 кг на 1 кв. м.).
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

По итогам первого полугодия выпуск стальных конструкций в России составил 2,3 млн т, что на 5,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщается в отчете Федеральной службы государственной статистики.
При этом показатели июня 2019 г. на 17,9% ниже июня 2018 г., но на 13% выше, чем в мае 2019 г.
Рост промышленного производства в РФ в июне ускорился до 3,3% с майских 0,9%, по итогам первого полугодия составил 2,6% против 3% за соответствующий период прошлого года.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Цены на сырье в целом завершают первую неделю июля на более высоком уровне, чем ее начали. В Турции возобновились активные закупки металлолома, а железная руда в первых числах июля достигла нового пика, впервые с начала 2014 г. поднявшись до отметки $125 за т CFR Китай. Однако насчет продолжения этого подъема возникают большие сомнения. Металлургическим компаниям пока не удается перенести возросшие сырьевые затраты на стоимость готовой продукции. Да и текущие процессы в мировой экономике не вызывают особого оптимизма. Впрочем, та же руда, по-видимому, еще достаточно долго останется дорогостоящей. Чтобы развернуть ее в сторону понижения, нужно либо сокращение выплавки стали в Китае, либо увеличение импорта ЖРС. А лучше — и то, и другое одновременно.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Согласно данным World Steel Association (Worldsteel, WSA), в мае 2019 г. в 64 странах, которые подают свои данные в эту международную организацию, было выплавлено 162,7 млн. т стали, на 5,4% больше, чем в тот же месяц прошлого года.
Этот показатель стал рекордным в истории мировой металлургической отрасли. Впервые месячный показатель в статистике Worldsteel превысил отметку 160 млн. т. Среднесуточный объем производства достиг 5,250 млн. т, что на 0,5% превысило предыдущий рекорд, установленный в апреле текущего года.
Всего за первые пять месяцев 2019 г. в странах, подающих свои данные в WSA, было получено 763,2 млн. т стали, на 5,0% больше, чем в тот же период годичной давности. При этом Китай увеличил свои показатели до 404,0 млн. т, продемонстрировав рост на 10,2%
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Компания «Уралиндуктор» предлагает предлагает весь спектр номенклатуры линий для холодно-твердеющих смесей.
Холодно-твердеющие смеси – это специальные смеси, которые после изготовления не требуют нагрева в сушильных печах. Благодаря связующим составляющим и отвердителям, они самозатвердевают на воздухе за 10-15 мин. Эта технология очень похожа на традиционную (литье металла в песчано-глинистые формы), только в виде связующего вещества для смесей песка применяют искусственные смолы.
Более детально познакомится с разделом «Оборудование для холоднотвердеющих смесей (ХТС)» Вы можете посетив страницу Оборудование для холоднотвердеющих смесей (ХТС)

1 июня 2019 года отметила свой юбилей компания «Уралиндуктор», ведущий производитель и поставщик оборудования для металлургии.
История компании началась с маленького коллектива, это были не самые простые годы, но очень интересные, мы учились, развивались и всегда поддерживали высокую профессиональную планку, поднятую нами с самого начала.
Мы развиваемся: в 2018 году мы запустили собственное производство муфельных печей, в этом году уже запущено производство оборудования для ХТС-процессов.
За время работы на российском рынке мы приобрели огромный опыт, множество друзей, клиентов и партнеров. Благодарим всех, кто работал с нами все эти годы, кто помогал развивать нашу компанию!
Хотим сказать большое спасибо нашим сотрудникам, коллегам и партнерам за то, что вы разделяете этот праздник вместе с нами, потому что это наш общий праздник, наша общая история успеха!

В рамках деловой программы международной промышленной выставки «Литмаш. Металлургия.Россия’2019», которая проходит в Экспоцентре в Москве, состоялись заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам и конференция «Технологическое развитие литейных производств».
Как рассказал в своем докладе президент Российской ассоциации литейщиков Иван Дибров, на Россию в настоящее время приходится около 4% мирового производства отливок. В прошлом году объем их выпуска составил немногим менее 4 млн. т. Из них порядка 300 тыс. т было экспортировано, а около 1 млн. т было приобретено российскими предприятиями за рубежом, главным образом, в Китае, странах Евросоюза и СНГ.
По словам председателя Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам Александра Петрова, несмотря на то, что отрасль еще далеко не оправилась от последствий разрушительного кризиса 90-х гг., в ней идет развитие науки и технологий. Российские компании осваивают выпуск современного оборудования, часто, как минимум, не уступающего своим качеством европейскому, и внедряют передовые научные достижения.
В последние годы в России стабильно растет спрос на высокотехнологичное литье из титана, жаропрочных и легких сплавов, редких металлов, которое применяется в аэрокосмической, оборонной промышленности, автомобиле- и машиностроении.Безусловно, отрасли приходится преодолевать еще немало проблем. И в этом ее представителям будет помогать Союз Машиностроителей. Он будет, в частности, собирать наилучшие практики и оказывать российским компаниям поддержку в их внедрении.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Как сообщает World Steel Association (Worldsteel, WSA), в марте 2019 г. в 64 странах, которые подают свои данные в эту международную организацию, было произведено 155,0 млн. т стали, что на 4,9% превышает показатель аналогичного месяца годичной давности. Среднесуточная выплавка стали увеличилась на 1,7% по сравнению с февралем и достигла 5,00 млн. т.
В целом в первом квартале текущего года объем глобального производства составил 444,1 млн. т, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Однако при этом в Китае был зафиксирован рост на 9,9%, до 231,1 млн. т, а в странах «остального мира» выплавка уменьшилась на 1,0% до 213,0 млн. т.
Россия между тем, по данным Worldsteel, в первом квартале выплавила только 16,81 млн. т, на 5,3% меньше, чем годом ранее. В марте спад составил 6,9%. Кстати, Украина, в чьи показатели по-прежнему включаются объемы выпуска в ДНР и ЛНР, по итогам первых трех месяцев текущего года произвела 5,51 млн. т стали, на 4,6% больше, чем годом ранее.
США значительно сократили отставание от первой тройки ведущих производителей стали в мире, увеличив выплавку стали в первом квартале на 6,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 22,23 млн. т. В марте правда, темпы роста немного снизились до 5,7%.На 1,8% по сравнению с первым кварталом 2018 г. выросло производство стали в Южной Корее, до 18,11 млн. т.
В Индии в первом квартале 2019 г. выплавка стали сократилась на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 27,33 млн. т. При этом в марте был зафиксирован спад на 1,0%. Япония по итогам первого квартала уменьшила производство стали на 5,4% по сравнению с январем-мартом 2018 г., до 24,97 млн. т, но в марте вернулась на прошлогодний график.
Продолжается спад в европейской металлургии. В первом квартале там было получено 42,30 млн. т стали, на 2,0% меньше, чем в аналогичный период 2018 г. Правда, по итогам марта снижение составило только 1,2%.
Очень сложной остается ситуация в турецкой металлургической промышленности. Из-за падения объемов внутреннего потребления и не слишком удачной экспортной конъюнктуры местные компании выплавили за три месяца лишь 8,18 млн. т стали, на 14,5% меньше, чем за то же время в прошлом году. В марте спад составил 11,7%.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Производство готового проката за январь-март увеличилось в годовом исчислении на 0,7% до 15,2 млн т. В марте по сравнению с предыдущим месяцем объёмы выросли на 3%, но в годовом соотношении произошёл спад на 5%, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики.
За три месяца текущего года металлургические предприятия произвели 12,9 млн т чугуна (зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах) – на 1% меньше, чем в первом квартале 2018 г. По итогам марта показатели выросли к февралю на 1%, но по сравнению с мартом 2018 г. снизились на 5,4%.
Трубные предприятия РФ изготовили в течение первого квартала 2019 г. 2,9 млн. т труб, пустотелых профилей и стальных фитингов. Сокращение объёмов в годовом соотношении – 2,8%. За март показатели ухудшились в годовом соотношении на 1%. По сравнению с предыдущим месяцем произошёл рост на 16,7%.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Цены на сырьевые материалы постепенно идут вниз вслед за стальной продукцией из-за низкого спроса и тревожных ожиданий нового мирового экономического кризиса. Однако из этого правила есть одно весьма значимое исключение. Железная руда на споте в одночасье подорожала почти на 10% вследствие перебоев с поставками из Австралии, где тропический циклон Вероника в конце марта нанес значительный ущерб железорудной экспортной инфраструктуре на западе континента. Пока сложно сказать, что в этом повышении больше — реально возникшего дефицита или спекулятивной раскрутки. Ближайшие две недели покажут, нашел ли рынок ЖРС новый равновесный уровень или со временем вернется на прежние позиции.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Наша компания информирует о поступлении на наш склад следующей продукции:
1. Индукционная тиристорная печь УИ-0.5T-400 на гидравлике.
Индукционная тиристорная печь УИ-0.5T-400 на гидравлике предназначена для плавки, нагрева и перегрева стали, чугуна и цветных металлов. Емкость печи позволяет расплавить металл массой до 500 кг за 65 минут. Может быть использована в литейных производствах промышленных предприятий.
Печь УИ-0.5T-400 проста в монтаже и настройке, требует минимальную квалификацию обслуживающего персонала. Допускается 3-х сменный режим работы.
Индукционная тиристорная печь УИ-0.5T-400 позволяет контролировать и изменять температуру расплавляемого металла, что дает высокую надежность и экономичность в работе. Надежная работа печи гарантируется многоступенчатой системой защиты комплекса от превышения температуры, отсутствия теплоносителя в системе охлаждения и отсутствия фазы и т.д.
Индукционные установки марки «УРАЛИНДУКТОР» собраны из высококачественных компонентов, на основе быстродействующих тиристоров, используемых для преобразования электрической энергии промышленной частоты в энергию электрического магнитного поля для расплавления металла, благодаря чему КПД данной установки достигает до 95%, обеспечивают высокую надежность при низком энергопотреблении.
2. Индукционная тиристорная печь УИ-0.15T-160.
Индукционная тиристорная печь УИ-0.15T-160 на гидравлике предназначена для плавки, нагрева и перегрева стали, чугуна и цветных металлов. Емкость печи позволяет расплавить металл массой до 150 кг за 50 минут. Может быть использована в литейных производствах промышленных предприятий.
Печь УИ-0.15T-160 проста в монтаже и настройке, требует минимальную квалификацию обслуживающего персонала. Допускается 3-х сменный режим работы.
Индукционная тиристорная печь УИ-0.15T-160 позволяет контролировать и изменять температуру расплавляемого металла, что дает высокую надежность и экономичность в работе. Надежная работа печи гарантируется многоступенчатой системой защиты комплекса от превышения температуры, отсутствия теплоносителя в системе охлаждения и отсутствия фазы и т.д.
Индукционные установки марки «УРАЛИНДУКТОР» собраны из высококачественных компонентов, на основе быстродействующих тиристоров, используемых для преобразования электрической энергии промышленной частоты в энергию электрического магнитного поля для расплавления металла, благодаря чему КПД данной установки достигает до 95%, обеспечивают высокую надежность при низком энергопотреблении.
3. Дробеметная установка барабанного типа УИД-326 Econom.
На дробеметной установке выполняется полностью автоматический закрытый процесс обработки поверхности изделий потоками абразивного материала, восстановление абразива и полное удаление отходов.
Абразив автоматически подается в дробеметный аппарат, который разгоняет его до рабочей скорости и направляет на вращающиеся на ленте, в закрытой дробеметной камере обрабатываемые изделия. Использованный абразив и мелкие отходы собираются на дне сборного бункера и шнековым транспортером подводятся к ковшовому элеватору. Ковшовый элеватор подает абразив и мелкие отходы в сепаратор, где разделяются загрязнители и исправный абразив. Очищенный и исправный абразив поступает в резервуар сепаратора для хранения и использования, а отходы выводятся за пределы установки. Образующийся в камере очистки и сепараторе запыленный воздух засасывается через воздуховоды в пылеуловитель, который устраняет все пыльные побочные продукты дробеметной установки и выбрасывает в окружающую среду очищенный воздух.
4. Дробеметная установка барабанного типа УИД-326.
На дробеметной установке выполняется полностью автоматический закрытый процесс обработки поверхности изделий потоками абразивного материала, восстановление абразива и полное удаление отходов.
Абразив автоматически подается в дробеметный аппарат, который разгоняет его до рабочей скорости и направляет на вращающиеся на ленте, в закрытой дробеметной камере обрабатываемые изделия. Использованный абразив и мелкие отходы собираются на дне сборного бункера и шнековым транспортером подводятся к ковшовому элеватору. Ковшовый элеватор подает абразив и мелкие отходы в сепаратор, где разделяются загрязнители и исправный абразив. Очищенный и исправный абразив поступает в резервуар сепаратора для хранения и использования, а отходы выводятся за пределы установки. Образующийся в камере очистки и сепараторе запыленный воздух засасывается через воздуховоды в пылеуловитель, который устраняет все пыльные побочные продукты дробеметной установки и выбрасывает в окружающую среду очищенный воздух.
5.Индукционный нагреватель УИ-40АВз.
Индукционный нагреватель УИ-40АВз предназначен для индукционной закалки черных и цветных металлов. УИ-40АВз применяется там, где требуется быстрый бесконтактный нагрев и закалка металлов и других проводящих материалов. Данная установка питается от источника питания 380 V(+PEN) промышленной частоты 50 Гц, рабочий диапазон тока индуктора от 400 до 1800 А. Расход воды для охлаждения установки составляет 7,6 л/мин.Закалка производится под воздействием токов высокой частоты мощностью 40 кВт. Есть возможность производить не только поверхностную, но и глубокую закалку металла.
6.Индукционный нагреватель УИ-60АВз.
Индукционный нагреватель УИ-60АВз предназначен для индукционной закалки черных и цветных металлов. УИ-60АВз применяется там, где требуется быстрый бесконтактный нагрев и закалка металлов и других проводящих материалов.Данная установка питается от источника питания 380 V(+PEN) промышленной частоты 50 Гц, рабочий диапазон тока индуктора от 400 до 2400 А. Расход воды для охлаждения установки составляет 7,6 л/мин.Закалка производится под воздействием токов высокой частоты мощностью 60 кВт. Есть возможность производить не только поверхностную, но и глубокую закалку металла.
7.Индукционный нагреватель УИ-60АВн.
Индукционный нагреватель УИ-60АВн предназначен для индукционного нагрева черных и цветных металлов. УИ-60АВн применяется там, где требуется быстрый бесконтактный нагрев металлов и других проводящих материалов. Данная установка питается от источника питания 380 V(+PEN) промышленной частоты 50 Гц, рабочий диапазон тока индуктора от 400 до 2400 А. Расход воды для охлаждения установки составляет 9 л/мин. Плавка металла производится под воздействием токов высокой частоты мощностью 60 кВт, получается очень качественной благодаря равномерному распределению тепла в металле.
8. Дробеметная установка кранового типа УИД-376E.
На дробеметной установке выполняется полностью автоматический закрытый процесс обработки поверхности изделий потоками абразивного материала, восстановление абразива и полное удаление отходов.
Абразив автоматически подается в дробеметный аппарат, который разгоняет его до рабочей скорости и направляет на вращающиеся на ленте, в закрытой дробеметной камере обрабатываемые изделия. Использованный абразив и мелкие отходы собираются на дне сборного бункера и шнековым транспортером подводятся к ковшовому элеватору. Ковшовый элеватор подает абразив и мелкие отходы в сепаратор, где разделяются загрязнители и исправный абразив. Очищенный и исправный абразив поступает в резервуар сепаратора для хранения и использования, а отходы выводятся за пределы установки. Образующийся в камере очистки и сепараторе запыленный воздух засасывается через воздуховоды в пылеуловитель, который устраняет все пыльные побочные продукты дробеметной установки и выбрасывает в окружающую среду очищенный воздух.
9. Дробеметная установка кранового типа УИД-378E.
На дробеметной установке выполняется полностью автоматический закрытый процесс обработки поверхности изделий потоками абразивного материала, восстановление абразива и полное удаление отходов.
Абразив автоматически подается в дробеметный аппарат, который разгоняет его до рабочей скорости и направляет на вращающиеся на ленте, в закрытой дробеметной камере обрабатываемые изделия. Использованный абразив и мелкие отходы собираются на дне сборного бункера и шнековым транспортером подводятся к ковшовому элеватору. Ковшовый элеватор подает абразив и мелкие отходы в сепаратор, где разделяются загрязнители и исправный абразив. Очищенный и исправный абразив поступает в резервуар сепаратора для хранения и использования, а отходы выводятся за пределы установки. Образующийся в камере очистки и сепараторе запыленный воздух засасывается через воздуховоды в пылеуловитель, который устраняет все пыльные побочные продукты дробеметной установки и выбрасывает в окружающую среду очищенный воздух.
10. Индукционная тиристорная печь УИ-0.5T-400.
Индукционная тиристорная печь УИ-0.5T-400 на гидравлике предназначена для плавки, нагрева и перегрева стали, чугуна и цветных металлов. Емкость печи позволяет расплавить металл массой до 500 кг за 65 минут. Может быть использована в литейных производствах промышленных предприятий.
Печь УИ-0.5T-400 проста в монтаже и настройке, требует минимальную квалификацию обслуживающего персонала. Допускается 3-х сменный режим работы.
Индукционная тиристорная печь УИ-0.5T-400 позволяет контролировать и изменять температуру расплавляемого металла, что дает высокую надежность и экономичность в работе. Надежная работа печи гарантируется многоступенчатой системой защиты комплекса от превышения температуры, отсутствия теплоносителя в системе охлаждения и отсутствия фазы и т.д.
Индукционные установки марки «УРАЛИНДУКТОР» собраны из высококачественных компонентов, на основе быстродействующих тиристоров, используемых для преобразования электрической энергии промышленной частоты в энергию электрического магнитного поля для расплавления металла, благодаря чему КПД данной установки достигает до 95%, обеспечивают высокую надежность при низком энергопотреблении.

На нашем Yotube канале пополнение!
В данном видео представлена работа по запуску индукционных плавильных печей серии УИ 250/350/450 кг.
Ознакомиться с всем спектром индукционных плавильных тиристорных печей предлагаемых нашей компанией вы можете перейдя по ссылке Индукционные плавильные тиристорные печи
Ссылка на видео «Запуск индукционной плавильной печи 250 кг. УралИндуктор, серии УИ-0.25Т-250кВт»
Ссылка на видео «Запуск индукционной плавильной печи 350 кг. УралИндуктор, серии УИ-0.35T-300кВт»
Ссылка на видео «Запуск индукционной плавильной печи 450 кг. УралИндуктор, серии УИ-0.45Т-400кВт»
Приятно просмотра!
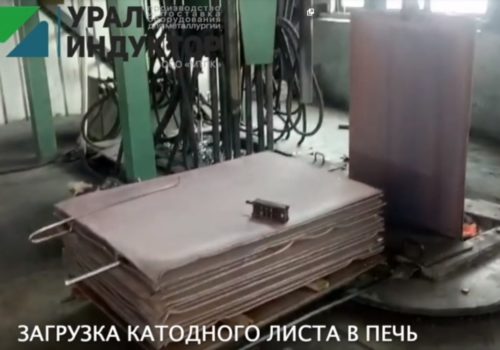
На нашем Yotube канале пополнение!
В данном видео наглядно представлена работа вертикальной линии непрерывного литья (МНЛЗ).
Ознакомиться с всем спектром оборудования для вертикальных линий непрерывного литья предлагаемых нашей компанией вы можете перейдя по ссылке Машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) для медных сплавов
Ссылка на видео «Вертикальная линия непрерывного литья (МНЛЗ)»
Приятно просмотра!

На нашем Yotube канале пополнение!
В данном видео наглядно представлена работа горизонтальной линии непрерывного литья (МНЛЗ).
Ознакомиться с всем спектром оборудования для горизонтальных линий непрерывного литья предлагаемых нашей компанией вы можете перейдя по ссылке Машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) для медных сплавов
Ссылка на видео «Горизонтальная линия непрерывного литья (МНЛЗ)»
Приятно просмотра!

На российском рынке стали продолжается зимний «мертвый сезон», но цены на стальную продукцию разворачиваются в сторону повышения. Причины этого роста находятся далеко за пределами нашей страны — в Турции, где оживление в строительной отрасли спровоцировало подорожание металлолома, заготовки и готового проката, и в Бразилии, где гибель более двух сотен человек под грязевым селем потрясла всю глобальную железорудную отрасль. Впрочем, и у нас происходит много событий, произносится много слов, которые, возможно, станут прелюдией к настоящим делам.
Пока в Китае и других странах Восточной Азии праздновали наступление Нового года по китайскому календарю (5 февраля), считалось, что на мировом рынке стали не может произойти ничего значимого. Однако Бразилия и Турция, железная руда и металлолом, оказались более важными факторами, чем даже Китай с его нерешенными проблемами со Штатами и риском нового обострения торгового конфликта.
В Турции, судя по всему, проявился эффект отложенного спроса и кратковременного дефицита, хорошо знакомый российским металлургам и металлотрейдерам. Весна там приходит раньше, чем у нас, строительная отрасль немного отдышалась после прошлогоднего обвала и начала потихоньку размещать заказы на арматуру. Это буквально возродило к жизни металлургические компании, многие из которых были вынуждены значительно сократить и даже приостановить производство в январе, причем без каких-либо перспектив на будущее.
После того как эти перспективы внезапно появились, турецкие мини-заводы стали интенсивно закупать металлолом, чтобы обеспечить себя сырьем на ближайшие два месяца. Так как объем предложения сейчас по зимнему времени ограниченный, итогом стал взлет цен. По сравнению с крайней точкой спада в первой половине января стоимость металлолома в Турции подскочила уже более чем на $50 за т. Соответствующим образом рванули вверх сортовой прокат, а также заготовка, в том числе, отечественного производства.
В принципе, для Турции на ближайшие недели можно прогнозировать выход на пик, а затем понижательную коррекцию и стабилизацию на новом уровне. Или медленное понижение, как было в России осенью прошлого года, если турецким металлургам не удастся соблюсти баланс между спросом и предложением. Тем не менее, пока повышение еще продолжается, так что отечественные экспортеры стальной продукции могут существенно поправить свои дела.
Подорожание железной руды, по-видимому, имеет более долгосрочный характер. На прошлой неделе оно было, скорее, виртуальным из-за отсутствия крупнейшего покупателя — Китая. Но теперь рынок, очевидно, примет новые ориентиры. По мнению ряда экспертов, представляющих ведущие инвестиционные банки и трейдинговые компании, на пике австралийская руда с 62% железа, которая еще в конце прошлого года стоила менее $70 за т CFR Китай, имеет все шансы превысить отметку $100 за т, а в ближайшие месяцы она может не опуститься ниже $75-80 за т.
Резонанс от бразильской трагедии громкий, а эхо разносится далеко. В этой стране очень плохо относятся к компаниям, допустившим серьезные косяки с загрязнением окружающей среды и вообще нарушения при добыче полезных ископаемых. Компания Samarco, у которой катастрофический прорыв дамбы хвостохранилища произошел в ноябре 2015 г., простаивает до сих пор. Глиноземный завод Alunorte, где в феврале прошлого года произошла утечка отходов прилегающего бокситового рудника, вот уже скоро год как работает на половинной мощности. Очевидно, что и для Vale, крупнейшей железорудной корпорации страны и мира, последствия будут не менее тяжелыми.
Еще в январе руководство Vale сообщило, что постепенно спустит десять хвостохранилищ, где существует риск прорыва, и перейдет к преимущественному складированию сухих отходов обогащения. Из-за этого на три года останавливаются железорудные предприятия совокупной производительностью 40 млн. т в год. А на прошлой неделе суд штата Минас-Жерайс лишил компанию лицензии на крупнейший на юге страны ГОК Brucutu, где ежегодно добывалось около 30 млн. т сырья.
Ранее Vale заявляла, что частично компенсирует потери за счет увеличения добычи сырья на других активах, но дыру в 70 млн. т уже не закроешь ничем. Мировой рынок ЖРС переходит в состояние дефицита. А высокая стоимость руды неизбежно приведет к подорожанию стальной продукции независимо от воздействия любых других факторов. Разве что, кроме очередного глобального финансового кризиса.
Увеличение затрат и рост экспортных котировок ведут к поднятию цен на прокат и на российском рынке. Повышение заводских котировок на арматуру и листовую продукцию в марте становится практически предрешенным. Таким образом, дистрибьюторским компаниям тоже необходимо корректировать вверх позиции в прайс-листах. Что, собственно, некоторые поставщики уже сделали. Причем, металлотрейдерам надо поторапливаться. За последние две недели стоимость российской стальной продукции на экспорте прибавила порядка $20-40 за т, и это, очевидно, еще не вершина.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Компания «Уралиндуктор» предлагает широкую номенклатуру импортных тиристоров таблеточного типа.
Тиристор — полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами. Тиристор можно рассматривать как электронный выключатель (ключ). Основное применение тринисторов (с тремя электрическими выводами — анодом, катодом и управляющим электродом) — управление мощной нагрузкой с помощью слабого сигнала, подаваемого на управляющий электрод.В двухвыводных приборах, — динисторах переход прибора в проводящее состояние происходит, если напряжение между его анодом и катодом превысит напряжение открывания.Также тиристоры применяются в ключевых устройствах, например, силового электропривода.
Более детально познакомится с разделом «Тиристоры» Вы можете посетив страницу Тиристоры

Наша компания информирует о поступлении на наш склад следующей продукции:
1. Индукционная тиристорная печь УИ-0.25T-250.
Индукционная плавильная тиристорная печь УИ-0.25T-250 предназначена для плавки, нагрева и перегрева стали, чугуна и цветных металлов. Емкость печи позволяет расплавить металл массой до 250 кг за 60 минут. Может быть использована в литейных производствах промышленных предприятий.
Печь УИ-0.25T-250 проста в монтаже и настройке, требует минимальную квалификацию обслуживающего персонала. Допускается 3-х сменный режим работы.
Индукционная тиристорная печь УИ-0.25T-250 позволяет контролировать и изменять температуру расплавляемого металла, что дает высокую надежность и экономичность в работе. Надежная работа печи гарантируется многоступенчатой системой защиты комплекса от превышения температуры, отсутствия теплоносителя в системе охлаждения и отсутствия фазы и т.д.
Индукционные установки марки «УРАЛИНДУКТОР» собраны из высококачественных компонентов, на основе быстродействующих тиристоров, используемых для преобразования электрической энергии промышленной частоты в энергию электрического магнитного поля для расплавления металла, благодаря чему КПД данной установки достигает до 95%, обеспечивают высокую надежность при низком энергопотреблении.
2. Индукционная тиристорная печь УИ-0.1T-100.
Индукционная плавильная тиристорная печь УИ-0.1T-100 предназначена для плавки, нагрева и перегрева стали, чугуна. Емкость печи позволяет расплавить металл массой до 100 кг за 40 минут. Может быть использована в литейных производствах промышленных предприятий.
Печь УИ-0.1T-100 проста в монтаже и настройке, требует минимальную квалификацию обслуживающего персонала. Допускается 3-х сменный режим работы.
Индукционная тиристорная печь УИ-0.1T-100 позволяет контролировать и изменять температуру расплавляемого металла, что дает высокую надежность и экономичность в работе. Надежная работа печи гарантируется многоступенчатой системой защиты комплекса от превышения температуры, отсутствия теплоносителя в системе охлаждения и отсутствия фазы и т.д.
Индукционные установки марки «УРАЛИНДУКТОР» собраны из высококачественных компонентов, на основе быстродействующих тиристоров, используемых для преобразования электрической энергии промышленной частоты в энергию электрического магнитного поля для расплавления металла, благодаря чему КПД данной установки достигает до 95%, обеспечивают высокую надежность при низком энергопотреблении.
Данная установка укомплектована 1 плавильным узлом.
3. Индукционная тиристорная печь УИ-0.1T-100.
Индукционная плавильная тиристорная печь УИ-0.1T-100 предназначена для плавки, нагрева и перегрева стали, чугуна. Емкость печи позволяет расплавить металл массой до 100 кг за 40 минут. Может быть использована в литейных производствах промышленных предприятий.
Печь УИ-0.1T-100 проста в монтаже и настройке, требует минимальную квалификацию обслуживающего персонала. Допускается 3-х сменный режим работы.
Индукционная тиристорная печь УИ-0.1T-100 позволяет контролировать и изменять температуру расплавляемого металла, что дает высокую надежность и экономичность в работе. Надежная работа печи гарантируется многоступенчатой системой защиты комплекса от превышения температуры, отсутствия теплоносителя в системе охлаждения и отсутствия фазы и т.д.
Индукционные установки марки «УРАЛИНДУКТОР» собраны из высококачественных компонентов, на основе быстродействующих тиристоров, используемых для преобразования электрической энергии промышленной частоты в энергию электрического магнитного поля для расплавления металла, благодаря чему КПД данной установки достигает до 95%, обеспечивают высокую надежность при низком энергопотреблении.
Данная установка укомплектована 2мя плавильными узлами.
3. Дробеметная установка с вращающимся столом УИД-3515.
На дробеметной установке выполняется полностью автоматический закрытый процесс обработки поверхности изделий потоками абразивного материала, восстановление абразива и полное удаление отходов.
Абразив автоматически подается в дробеметный аппарат, который разгоняет его до рабочей скорости и направляет на вращающиеся на ленте, в закрытой дробеметной камере обрабатываемые изделия. Использованный абразив и мелкие отходы собираются на дне сборного бункера и шнековым транспортером подводятся к ковшовому элеватору. Ковшовый элеватор подает абразив и мелкие отходы в сепаратор, где разделяются загрязнители и исправный абразив. Очищенный и исправный абразив поступает в резервуар сепаратора для хранения и использования, а отходы выводятся за пределы установки. Образующийся в камере очистки и сепараторе запыленный воздух засасывается через воздуховоды в пылеуловитель, который устраняет все пыльные побочные продукты дробеметной установки и выбрасывает в окружающую среду очищенный воздух.
4. Формовочная машина для песчано-глинистых смесей серии УИФ-145.
Формовочные машины для песчано-глинистых смесей серии УИФ-14 предназначены для работы в литейном производстве с использованием песчано-глинистых смесей. Установки производят уплотнение смеси в небольших полуопоках. Уплотнение смеси происходит с помощью микровстряски, и не требует предварительного ручного уплотнения смеси.
Процесс формовки происходит в несколько этапов, отдельно формуется верхняя и нижняя полуопоки, затем полуопоки переворачиваются (вручную, или с помощью переворотной установки) и стыкуются.
5. Смесеприготовитель чашечный УИС-114.Машина используется для производства песка и песка для литейного цеха.
5. Смесеприготовитель шнекового типа, непрерывного действия однорукавный УИШС-243, производительностью 1-3 тонн в час.

Коллектив нашей компании от всей души поздравляет всех с наступающим Новым годом!
Уважаемые клиенты, дорогие наши друзья! В этот Новый год хочется от всей души поблагодарить вас за внимание к нам, интерес к тому, что мы делаем и, конечно, за ваше бесконечное доверие! Поздравляем вас с этим волшебным праздником и желаю вам процветания в делах, благополучия в личной жизни, побольше совместных проектов и успешного завершения всех начатых дел!

Компания «Уралиндуктор» предлагает широкую номенклатуру радиальных машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) серии УИ. Наша компания занимается проектированием, производством, модернизацией как всего комплекса оборудования машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), так и отдельных узлов, механизмов и систем.
Машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) — машина для разливки стали, обеспечивающая квазинепрерывный перевод жидкой стали, находящейся в сталеразливочном ковше, в твердое состояние в виде заготовок определенной геометрической формы.
Процесс разливки металла на МНЛЗ обеспечивает последовательную (без остановок) разливку определенного количества ковшей, подаваемых от сталеплавильных агрегатов, а получаемая заготовка при этом разрезается на мерные длины в соответствии с требованиями потребителей и затем отправляется на перекат в соответствующие прокатные цехи.
Более детально познакомится с разделом «Машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) для стали» Вы можете посетив страницу Машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) для стали

Компания «Уралиндуктор» предлагает предлагает весь спектр номенклатуры линий для холодно-твердеющих смесей.
Холодно-твердеющие смеси – это специальные смеси, которые после изготовления не требуют нагрева в сушильных печах. Благодаря связующим составляющим и отвердителям, они самозатвердевают на воздухе за 10-15 мин. Эта технология очень похожа на традиционную (литье металла в песчано-глинистые формы), только в виде связующего вещества для смесей песка применяют искусственные смолы.
Более детально познакомится с разделом «Оборудование для холоднотвердеющих смесей (ХТС)» Вы можете посетив страницу Оборудование для холоднотвердеющих смесей (ХТС)

Компания «Уралиндуктор» предлагает весь спектр номенклатуры для процесса литья в песчано-глинистые смеси(ПГС).
Изготовление «сырых» песчано-глинистых форм (ПГC) является самым распространенным процессом изготовления разовых песчаных форм в мире. Процесс изготовления таких форм характеризуется, прежде всего, высокими объемами производства, низкими производственными затратами, а также легкостью в управлении процессом. Так как снижение цен и в дальнейшем будет оставаться важной тенденцией в литейной промышленности процесс изготовления сырых песчаных форм и далее останется основным в области литейного производства.
В настоящее время литейные предприятия используют различные варианты технических решений формовочных машин и способов уплотнения на ПГС. Выбор оборудования зависит от вида отливок, объемов производства, экологических норм и т.д.
Более детально познакомится с разделом «Оборудование для песчано-глинистых смесей (ПГС)» Вы можете посетив страницу Оборудование для песчано-глинистых смесей (ПГС)

Компания «Уралиндуктор» предлагает стенд сушки/нагрева литейных ковшей на газообразном топливе, под ковши емкостью от 3 до 4 т.
Стенд сушки/нагрева литейных ковшей используется в металлургической промышленности для нагрева футеровки разливочных ковшей, а также других промышленных ковшей и печей. Во время сушки осуществляют удаление влаги.
Более детально познакомится с разделом «Стенд для сушки ковша на 3-4 тонны» Вы можете посетив страницу Стенд для сушки ковша на 3-4 тонны

Рады сообщить что Вы можете теперь связаться с нашими менеджерами с помощью Viber и WhatsApp по телефону +7 (962) 487-01-07!

Наша компания информирует о поступлении на наш склад следующей продукции:
1. Индукционный нагреватель УИ-40АВз.
Индукционный нагреватель УИ-40АВз предназначен для индукционной закалки черных и цветных металлов. УИ-40АВз применяется там, где требуется быстрый бесконтактный нагрев и закалка металлов и других проводящих материалов.
Данная установка питается от источника питания 380 V(+PEN) промышленной частоты 50 Гц, рабочий диапазон тока индуктора от 400 до 1800 А. Расход воды для охлаждения установки составляет 7,6 л/мин.
Закалка производится под воздействием токов высокой частоты мощностью 40 кВт. Есть возможность производить не только поверхностную, но и глубокую закалку металла.
Установки бесконтактного индукционного нагрева на IGBT модулях серии УИ «УралИндуктор» с водяным охлаждением разработаны при участии Американских и Немецких производителей и включает в себя комплектующие фирмы SIEMENS, интегральную схему ASIC-2 и Японские конденсаторы RUBYCON.
2. Индукционный нагреватель УИ-60АВз.
Индукционный нагреватель УИ-60АВз предназначен для индукционной закалки черных и цветных металлов. УИ-60АВз применяется там, где требуется быстрый бесконтактный нагрев и закалка металлов и других проводящих материалов.
Данная установка питается от источника питания 380 V(+PEN) промышленной частоты 50 Гц, рабочий диапазон тока индуктора от 400 до 2400 А. Расход воды для охлаждения установки составляет 7,6 л/мин.
Закалка производится под воздействием токов высокой частоты мощностью 60 кВт. Есть возможность производить не только поверхностную, но и глубокую закалку металла.
Установки бесконтактного индукционного нагрева на IGBT модулях серии УИ «УралИндуктор» с водяным охлаждением разработаны при участии Американских и Немецких производителей и включает в себя комплектующие фирмы SIEMENS, интегральную схему ASIC-2 и Японские конденсаторы RUBYCON.
3. Индукционный нагреватель УИ-60АВн.
Индукционный нагреватель УИ-60АВн предназначен для индукционного нагрева черных и цветных металлов. УИ-60АВн применяется там, где требуется быстрый бесконтактный нагрев металлов и других проводящих материалов.
Данная установка питается от источника питания 380 V(+PEN) промышленной частоты 50 Гц, рабочий диапазон тока индуктора от 400 до 2400 А. Расход воды для охлаждения установки составляет 9 л/мин.
Плавка металла производится под воздействием токов высокой частоты мощностью 60 кВт, получается очень качественной благодаря равномерному распределению тепла в металле.
Установки бесконтактного индукционного нагрева на IGBT модулях серии УИ «УралИндуктор» с водяным охлаждением разработаны при участии Американских и Немецких производителей и включает в себя комплектующие фирмы SIEMENS, интегральную схему ASIC-2 и Японские конденсаторы RUBYCON.
4. Дробеметная установка кранового типа УИД-376EM.
Преимущества
• Высокая надежность и экономичность;
• Низкое электропотребление;
• Простота в монтаже и настройке;
• Возможность беспрерывной работы в течении 24 часов;
• Минимальная квалификация обслуживающего персонала;
5.Система охлаждения УИГ-600 (градирня).
Представляет собой корпус с встроенным радиатором с воздушным и водяным охлаждением. Снизу градирни находится емкость для воды. С помощью этой воды происходит орошение радиатора.Градирня может быть выполнена в оцинкованом или нержавеющем корпусе.Градирня используется для охлаждения всей плавильной установки.
Преимущества УИГ-600 :
• Закрытая система охлаждения позволяет защитить трубы от засорения примесями;
• Циркуляция дистиллированной воды в закрытой системе охлаждения защищает от перегрева и повреждения источник питания, тиристоры, конденсаторы, модули IGBT, индукционной катушки и другие элементы;
• Не требуется большого водяного резервуара, занимает малое пространство, удобно для монтажа и перемещения;
• Высокая эффективность, низкая эксплуатационная себестоимость;
• Низкое потребление воды в закрытой циркуляции;
• Полностью автоматическая система;
• Легко перенастроить на охлаждение другого оборудования.
6.Система охлаждения УИГ-1250 (градирня).
Представляет собой корпус с встроенным радиатором с воздушным и водяным охлаждением. Снизу градирни находится емкость для воды. С помощью этой воды происходит орошение радиатора.Градирня может быть выполнена в оцинкованом или нержавеющем корпусе.Градирня используется для охлаждения всей плавильной установки.
Преимущества УИГ-1250 :
• Закрытая система охлаждения позволяет защитить трубы от засорения примесями;
• Циркуляция дистиллированной воды в закрытой системе охлаждения защищает от перегрева и повреждения источник питания, тиристоры, конденсаторы, модули IGBT, индукционной катушки и другие элементы;
• Не требуется большого водяного резервуара, занимает малое пространство, удобно для монтажа и перемещения;
• Высокая эффективность, низкая эксплуатационная себестоимость;
• Низкое потребление воды в закрытой циркуляции;
• Полностью автоматическая система;
• Легко перенастроить на охлаждение другого оборудования.
7. Индукционная тиристорная печь УИ-0.5T-400. С редукторным приводом наклона плавильного узла.
Назначение:
Установка индукционного нагрева, предназначена для термообработки металлов методом бесконтактного нагрева.
Комплект поставки:
1) Тиристорный среднечастотный преобразователь – 1 шт.
2) Плавильный узел — 2 шт. (комплектуется дополнительными плавильными узлами)
3) Конденсаторная батарея – 1 шт.
4) Водоохлаждаемые кабели – 4 шт.
5) Тигель для футеровки – 2 шт.
6) Градирня
7) Пульт управления наклоном печи – 1 шт.
8) Комплект эксплуатационных документов — 1 шт.

В течение августа 2018 г. производство первичного алюминия в мире составило 5,485 млн. т (в июле — 5,476 млн. т). Рост объёмов в годовом исчислении — 3,96%, сообщается в материалах International Aluminium Institute.
Китаем за август было произведено 3,12 млн. т первичного алюминия (в предыдущем месяце — 3,115 млн. т). Улучшение показателей по сравнению с августом 2017 г. — 5,76%.
На долю стран Персидского залива в общем объёме пришлось 0,452 млн. т, стран Азии (без учёта КНР) — 0,376 млн. т. Металлургические предприятия восточной и центральной Европы изготовили 0,343 млн. т алюминия, северной Америки — 0,32 млн. т, западной Европы — 0,321 млн. т. Океания произвела за август 0,163 млн. т первичного алюминия, Африка — 0,145 млн. т, южная Америка — 0,095 млн. т алюминия.
За 8 месяцев 2018 г. производители первичного алюминия улучшили показатели до 42,721 млн. т по сравнению с 42,691 млн. т в январе-августе 2017 г.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Рады сообщить о появлении на сайте раздела в котором вы можете познакомиться с отзывами наших клиентов!
Профессиональное и качественное обслуживание заказчиков является приоритетным направлением нашей компании. В настоящее время наша компания имеет множество положительных отзывов от клиентов и готова к дальнейшему развитию в области совершенствования и разработок нового оборудования для отечественной металлургии.
Более детально познакомиться с разделом «Отзывы» Вы можете посетив страницу Отзывы

Рады сообщить о появлении на сайте раздела посвященного нашему собственному производству термических печей.
С 2018 года компания «Уралиндуктор» начала собственное производство термических печей для разнообразных видов термообработки – полного отжига, рекристаллизационного отжига, нагрева для закалки или аустенизации, а также для отпуска или для отжига с целью снятия внутренних напряжений после формовки или сваривания, искусственного старения материалов.
В нашем производстве мы внедряем самые современные технологии и уникальные решения, которые являются разработками инженеров компании «Уралиндуктор», а использование материалов отечественного производства делают наш продукт одним из лучших в своем сегменте!
Особенностью печей марки «Уралиндуктор» серии УИ-ТП является монтаж нагревательных спиралей полузакрытого исполнения, для обеспечения безопасности и увеличения срока эксплуатации нагревательных элементов.
Более детально познакомится с разделом «Наше производство» Вы можете посетив страницу Наше производство
Наша компания информирует о поступлении на наш склад следующей продукции:
1. Индукционная тиристорная печь УИ-0.5T-400. С редукторным приводом наклона плавильного узла.
Назначение:
Установка индукционного нагрева, предназначена для термообработки металлов методом бесконтактного нагрева.
Комплект поставки:
1) Тиристорный среднечастотный преобразователь – 1 шт.
2) Плавильный узел — 2 шт. (комплектуется дополнительными плавильными узлами)
3) Редуктор плавильного узла – 1 шт.
4) Конденсаторная батарея – 1 шт.
5) Водоохлаждаемые кабели – 4 шт.
6) Тигель для футеровки – 2 шт.
7) Пульт управления наклоном печи – 1 шт.
8) Комплект эксплуатационных документов — 1 шт.
2. Индукционная тиристорная печь УИ-0.5T-400. С гидравлическим приводом наклона плавильного узла.
Назначение:
Установка индукционного нагрева, предназначена для термообработки металлов методом бесконтактного нагрева.
Комплект поставки:
1) Тиристорный среднечастотный преобразователь – 1 шт.
2) Плавильный узел — 2 шт. (комплектуется дополнительными плавильными узлами)
3) Гидростанция – 1 шт.
4) Конденсаторная батарея – 1 шт.
5) Водоохлаждаемые кабели – 4 шт.
6) Тигель для футеровки – 2 шт.
7) Пульт управления наклоном печи – 1 шт.
8) Комплект эксплуатационных документов — 1 шт.
3.Система охлаждения УИГ-600 (градирня).
Представляет собой корпус с встроенным радиатором с воздушным и водяным охлаждением. Снизу градирни находится емкость для воды. С помощью этой воды происходит орошение радиатора.Градирня может быть выполнена в оцинкованом или нержавеющем корпусе.Градирня используется для охлаждения всей плавильной установки.
Преимущества УИГ-600 :
• Закрытая система охлаждения позволяет защитить трубы от засорения примесями;
• Циркуляция дистиллированной воды в закрытой системе охлаждения защищает от перегрева и повреждения источник питания, тиристоры, конденсаторы, модули IGBT, индукционной катушки и другие элементы;
• Не требуется большого водяного резервуара, занимает малое пространство, удобно для монтажа и перемещения;
• Высокая эффективность, низкая эксплуатационная себестоимость;
• Низкое потребление воды в закрытой циркуляции;
• Полностью автоматическая система;
• Легко перенастроить на охлаждение другого оборудования.
4.Дробеметная установка кранового типа УИД-378.
Преимущества
• Высокая надежность и экономичность;
• Низкое электропотребление;
• Простота в монтаже и настройке;
• Возможность беспрерывной работы в течении 24 часов;
• Минимальная квалификация обслуживающего персонала;
5. Дробеметная установка барабанного типа УИД-326.
Преимущества
• Обладает высокой надежностью и экономичностью;
• Низкое электропотребление;
• Проста в монтаже и настройке;
• Возможность беспрерывной работы в течении 24 часов;
• Минимальная квалификация обслуживающего персонала;

В течение июля котировки передельного чугуна на региональных рынках оставались неизменными: Азия CIF — 415 $/мт; Бразилия FOB – 402 $/мт; СНГ FOB – 400 $/мт; США CIF — 415 $/мт. При этом на рынке сложились все условиях для понижательного тренда — негативная конъюнктура рынка плоского проката и девальвация турецкой лиры. Высокий спрос на чугун имел место в США, где загрузка сталелитейных мощностей местных металлургов была на довольно высоком уровне. Однако диверсификация источников поступления сырья позволила им покрыть потребности, не допустив при этом повышения закупочных цен. В пользу экспортеров играло ограниченное предложение и довольно высокая себестоимость производства материала, что позволяло им не идти на уступки покупателям.
По словам заместителя директора ДП «Укрпромвнешэкспертиза» Добровольского Юрия, в первую неделю августа ценовой диапазон не изменился. Металлурги заняли выжидательную позицию, надеясь все-таки добиться уступок от поставщиков. Однако последние не согласны снижать котировки, так как уже полностью распродали продукцию августовского производства. К тому же на рынке металлолома появились признаки скорого разворота ценового тренда вверх. В таких условиях цены носили преимущественно индикативный характер.
Согласно прогнозам аналитиков «Укрпромвнешэкспертизы» в августе рост цен на плоский прокат, а также удорожание металлолома станут основными факторами увеличения цен на чугун. Также вполне вероятно активное пополнение запасов турецкими покупателями, которые долгое время осуществляли лишь ситуативные закупки в условиях слабого спроса на плоский прокат на внешних направлениях. Однако предполагаемое снижение себестоимости производства чугуна в Италии, Турции и США окажет существенное сдерживающее влияние на котировки материала из СНГ. Поэтому вряд ли ожидаемый ценовой рост будет значительным. Прогнозируемый диапазон котировок в августе – 390-415 $/т fob.
Негативный тренд преобладал на рынке металлолома, котировки снижались на всех без исключения региональных площадках. В конце июля региональные цены просели: ЕСU HMS 1&2 (80:20) fob 310$/мт (снижение на 15$/мт по сравнению с началом месяца), Азия HMS1, cif 365$/мт (снижение на 10$/мт), Турция HMS1&2 (80:20) cif 332$/мт (снижение на 18$/мт), Украина fob 280$/мт (снижение на 20$/мт).
«Основными факторами падения цен стали слабый спрос на арматуру на внутреннем рынке Турции, а также девальвация турецкой лиры. – комментирует ситуацию Добровольский. — В таких условиях импортеры по максимуму сократили закупки, стараясь обходиться складскими запасами. При этом уровень остатков лома был значительным не только у импортеров, но и у поставщиков, что вынуждало их соглашаться на снижение котировок в условиях жесткой конкуренции за покупателей».
К концу месяца спрос начал стабилизироваться, так как крупные заводы в Турции начали тестировать рынок проката более высокими котировками. Как следствие, трейдеры прекратили снижать цены в надежде на скорое восстановление ценового роста. Медленное повышение цен происходило в США и ЕС по причине падения продуктивности ломозаготовительных отраслей, что требовало ценового стимулирования активности сборщиков сырья.
В первую неделю котировки металлолома были стабильны. Попыток повышения цен пока не наблюдается, но и снижение цен также отсутствует в связи с падением предложения со стороны крупнейших трейдеров. В настоящий момент индикативный уровень цен на лом HMS 1&2 (80:20) составляет 325-340 $/т cif порты в Турции. В отдельных странах Азии был зафиксирован рост цен на внутренних рынках (например, в Южной Корее). Однако говорить об изменении тренда в азиатском регионе пока рано.
По мнению аналитиков УПЭ в августе спрос на металлолом начнет расти ввиду активизации прокатных сегментов и необходимости стимулирования ломозаготовки в ЕС и США. Также положительное влияние на котировки окажет восстановление роста цен на арматуру на внутреннем рынке Турции. Рост цен на внутренних рынках экспортирующих стран (прежде всего США и ЕС) подтолкнет экспортеров к продолжению увеличения котировок всех марок сырья. При этом вряд ли стоит рассчитывать на значительный ценовой рост в силу высокой вероятности быстрого восстановления продуктивности ломозаготовительных отраслей на фоне растущих цен и положительного воздействия сезонного фактора. Прогнозный диапазон цен на лом в августе – 325-345 $/т cif.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Камерные печи собственного производства компании «Уралиндуктор» являются самыми удобными и универсальными для процессов термической обработки металлов. При производстве печей наша компания использует самые современные компоненты только Российского производства. Благодаря широкому спектру моделей термических печей возможен индивидуальный подбор камеры по размеру и установка дополнительных компонентов для удобства использования.
Особенностью печей марки «Уралиндуктор» серии УИ-ТП является монтаж нагревательных спиралей полузакрытого исполнения, для обеспечения безопасности и увеличения срока эксплуатации нагревательных элементов.
Более детально познакомится с нашими термическими печами Вы можете посетив страницу Термическая печь с выкатным подом, а также посмотреть на нашем канале Youtube видео по созданию термической печи с выкатным подом УИТП-50М

Как сообщает Ассоциация развития стального строительства (АРСС), в первом квартале 2018 г. объем производства стальных конструкций строительного назначения увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
Эти данные приводятся в исследовании, проведенном для АРСС информационным агентством INFOLine. В нем также указывается, что объем производства металлоконструкций для строительной отрасли РФ с 2011 г. увеличился на 29%.
Наиболее заметный рост — более чем в 2 раза — был зафиксирован в первом квартале текущего года в Дальневосточном федеральном округе. Это объясняется строительством нескольких крупных инфраструктурных проектов. Это в частности, транспортно-перегрузочный комплекс для перевалки угля в морском порту Ванино, ТЭЦ в г. Советская Гавань, здания общежитий для Министерства Обороны и объекты для энергетики.
Создание на Дальнем Востоке специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств является стратегическим направлением для страны, поэтому высокая строительная активность здесь будет наблюдаться, как минимум, до 2025 г.
Увеличение спроса на металлоконструкции в России в целом объясняется возросшим объемом строительства, в том числе повышением интереса девелоперов к современным строительным технологиям с использованием стального каркаса. С начала 2018 г. количество заключенных договоров строительного подряда в РФ возросло на 3,2%. По итогам первого квартала объем инвестиций в основной капитал составил 2,3 трлн. руб., а совокупный объем кредитов, выданных строительным компаниям, вырос на 15,1%.
«Последние несколько лет мы уделяли особое внимание обновлению нормативной базы, чтобы помочь застройщикам осваивать технологию стального строительства. Благодаря этой работе регулирование отрасли стало более современным и адекватным. Это дало возможность приступить к реализации проектов на стальном каркасе как в Москве, так и в регионах. Они относятся к совершенно разным объектам недвижимости. Есть опыт возведения как жилых домов, так и объектов инфраструктуры: детских садиков, парковок и т.д.», — отмечает генеральный директор АРСС Александр Данилов.
Полный отчет об основных показателях и ключевых событиях строительной отрасли, а также состоянии рынка металлоконструкций доступен участникам Ассоциации развития стального строительства.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

На нашем канале Yotube пополнение!
В данном видео мы продолжаем рассказывать о новом направлении нашей компании — собственное производство печи с выкатным подом УИТП-50М, часть 3
Всем приятного просмотра!

Дистрибьюторы и производители сварных труб все-таки добились своего. Металлургические компании в конце концов пошли на уступки, понизив цены на горячекатаный листовой прокат по июньским, а в некоторых случаях, и по майским контрактам. Произошло это под влиянием как затоваривания, так и возможного ухудшения внешней конъюнктуры вследствие введения ограничений на импорт стали в ЕС и постепенной девальвации китайского юаня. В то же время, вопрос о перспективах на июль пока остается открытым. Металлотрейдеры, безусловно, будут настаивать на дальнейшем понижении, но производители наверняка попытаются взять реванш — если, конечно, у них сложатся для этого внешние условия.
Основной причиной спада участники рынка называют нарастание избыточных складских запасов. Дистрибьюторы сократили до минимума приобретение дорогостоящей продукции майского и июньского производства, которая в итоге скопилась в сбытовой сети комбинатов. Однако разрешить все противоречия пока не представляется возможным. Не устранена главная проблема последних месяцев — недостаточный спрос на споте.
В принципе, для дистрибьюторов дальнейшее понижение спотовых цен не имеет особого смысла. Спрос неэластичный, стимулировать его посредством новых скидок не получается. Повышению препятствуют избыток складских запасов, низкие объемы сбыта и конкуренция между металлотрейдерами. Таким образом получается, что цены в обозримом будущем могут меняться, но в весьма узких пределах.
Во второй половине июня российским металлургам удалось поднять экспортные котировки на листовой прокат на $20-30 за т благодаря активизации спроса в Турции и высоким объемам поставок в Евросоюз и страны Юго-Восточной Азии. Однако 5 июля страны ЕС должны обсудить введение ограничений на импорт стальной продукции. При этом достаточно большая вероятность, что установление квот и тарифов произойдет уже в середине текущего месяца.
В секторе сварных труб, не относящихся к нефтегазовому сортаменту, в ближайшие несколько недель, скорее всего, будет продолжаться спад. Котировки на штрипс по июньским контрактам в конечном итоге были существенно откорректированы в сторону понижения. Насчет июля определенности пока нет. При этом спрос на сварные трубы малого и среднего размера остается относительно невысоким.
Источник : Портал «Металлоснабжение и сбыт»

Алюминиевая промышленность – одна из базовых отраслей экономики любой страны: по объему потребления этого металла оценивают и уровень развития государства. В 2017 г. потребление чистого алюминия в мире составило 5 — 6%
И не случайно, что в этом году в самых разных уголках мира пройдут международные выставочные мероприятия, посвященные последним достижениям мировой алюминиевой промышленности. Так, ведущие производители алюмосодержащей продукции, дистрибьюторы оборудования, разработчики технологий и решений представят свои возможности в Дюссельдорфе (Германия), в Эль-Кувейте (Кувейт) и Токио (Япония).
В следующем году в России запускается новый проект — Международная специализированная выставка «Алюминий-Экспо» (Москва, ЦВК «Экспоцентр», 14 — 17 мая 2019 г.), которая соберет на отдельной площадке ключевых участников алюминиевого рынка. Свои производственные возможности и достижения в Москве представят российские и зарубежные компании, занимающиеся производством, переработкой и поставками алюминия, производители высокомаржинальной алюминиевой продукции, дистрибьюторы оборудования, разработчики технологий и решений смогут представить свои достижения широкому кругу конкретных потребителей из различных отраслей промышленности.
«Алюминий-Экспо» — совместный проект Металл-Экспо (Россия) и Мессе Дюссельдорф (Германия) при активном участии Алюминиевой Ассоциации (Россия). Основная цель выставки — стимулирование роста внутрироссийского потребления алюминиевой продукции, а также внедрение лучших практик применения алюминиевых сплавов в различных отраслях промышленности, строительстве и транспортном машиностроении.
Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» рассказал о ситуации на мировом и российском рынках алюминия, стимулировании внутрироссийского спроса, о том, как на отрасль влияют санкции США, о новых проектах отечественных металлургов.
Источник : Портал «Металл-Экспо 2018»

На нашем канале Yotube пополнение!
В данном видео мы продолжаем рассказывать о новом направлении нашей компании — собственное производство печи с выкатным подом УИТП-50М, часть 2
Всем приятного просмотра!

На нашем канале Yotube пополнение!
В данном видео мы расскажем о новом направлении нашей компании — собственное производство печи с выкатным подом УИТП-50М, часть 1
Всем приятного просмотра!

На нашем канале Youtube вышло новое видео!
Всем привет! В данном видео будет наглядно показано и рассказано о отгрузке оборудования, в данном случае это плавильный комплекс, с нашего склада в г.Челябинск.
Приятного просмотра!

По данным World Steel Association (WSA), в марте 2018 г. в 64 странах, которые в текущем году подают свою статистику в эту международную организацию, было произведено 148,3 млн. т стали, что на 4,1% превышает результат аналогичного месяца 2017 г. Данный результат стал рекордным в истории отрасли.
Точно так же и среднесуточный объем выплавки достиг в марте максимального исторического значения — 4,78 млн. т, на 1,2% больше, чем в феврале. Средний уровень загрузки мощностей в отрасли, согласно оценке WSA, составил 74,5%, что стало максимальной отметкой с октября 2014 г.
В первом квартале текущего года мировое производство стали достигло 426,6 млн. т. Это на 4,4% или на 18,0 млн. т превысило показатель аналогичного периода предыдущего года.
Если в конце прошлого года темпы роста объемов выплавки стали в Китае были ниже, чем в странах остального мира, то по итогам первых трех месяцев 2018 г. китайцы вырвались далеко вперед. Согласно данным WSA, в марте в стране было произведено почти 74,0 млн. т стали, что на 4,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Среднесуточная выплавка вышла на отметку 2,387 млн. т, что примерно соответствует показателям середины прошлого года. Всего же за три месяца китайские металлурги выдали 212,15 млн. т стали против 200,0 млн. т за январь-март 2017 г.

Замглавы ведомства Виктор Евтухов заявил, что решение президента США будет оспорено в органах ВТО, возможно и введение ответных мер.Убытки российских компаний от введения властями США заградительных пошлин на ввозимые в страну сталь и алюминий могут составить около $3 млрд, заявил в эфире канала «Россия 24» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Что касается убытков наших предприятий, наших компаний, то, по предварительным расчетам, это не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию», — сказал Евтухов. По его словам, высокий уровень потерь объясняется, в частности, тем, что российские металлургические компании инвестировали в прокатные мощности непосредственно в США, и эти предприятия используют в своей работе российские полуфабрикаты.
Угрозой для российских металлургов Евтухов назвал и возможность «хаотичного перераспределения товарных потоков» после закрытия рынка США, а также введения остальными странами мер по защите собственных рынков.
«При этом надо понимать, что в настоящее время в отношении продукции из нашей страны уже действует немалое количество торговых барьеров, которые затрудняют доступ на рынки», — сказал замминистра. В то же время он пояснил, что для североамериканских «дочек» российских металлургических компаний эффект от введения пошлин может оказаться позитивным, так как закрытие рынка США для иностранцев приведет к росту стоимости их продукции.
О позитивном эффекте от введения пошлин заявил РБК и представитель Трубной металлургической компании (ТМК), которой в США принадлежит компания IPSCO Tubulars Inc. «Мы прогнозируем, что введенные США пошлины положительно скажутся на бизнесе IPSCO. 25-процентная пошлина на сталь ограничит импорт стальных труб в США и, как следствие, повлечет повышение цен и улучшение рентабельности домашнего производства в США», — сказал представитель ТМК.Евтухов также добавил, что Минпромторг вместе с Минэкономразвития будет оспаривать принятое в США решение в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), пояснив, что иск россиян могут поддержать также китайские и южнокорейские производители. «И при этом надо смотреть по поводу ответных мер, и все страны это будут делать», — сказал замглавы Минпромторга.
Президент США Дональд Трамп 9 марта подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия из всех стран, за исключением Канады и Мексики. Единые пошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий — 10%. Ранее Министерство торговли США пришло к выводу, что импорт стали и алюминия «угрожает национальной безопасности» страны.22 марта стало известно, что власти США решили приостановить введение пошлин в отношении стали и алюминия из Евросоюза, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.23 марта прошел совет ВТО по торговле, повестка которого (есть у РБК) включала рассмотрение вопроса о новых пошлинах США на импорт стали и алюминия — по запросу России и Китая. Согласно сообщению Reuters, к обсуждению проблемы подключился Евросоюз, Бразилия, Япония, Австралия и другие страны. Участники совета заявили о своем несогласии с тем, что США обосновывают введение пошлин национальной безопасностью.

На нашем канале Yotube пополнение!
Всем привет! В данном видео, как мы и обещали, будет наглядно показано и рассказано о приобретении в Китае оборудования, например, дробемета УИД326. Мы детально и в цифрах опишем схему поиска, покупки и ввоза оборудования из КНР! В итоге Вы сможете сделать вывод, что лучше: купить оборудование самостоятельно либо приобрести его в компании «Уралиндуктор».
Всем приятного просмотра!

